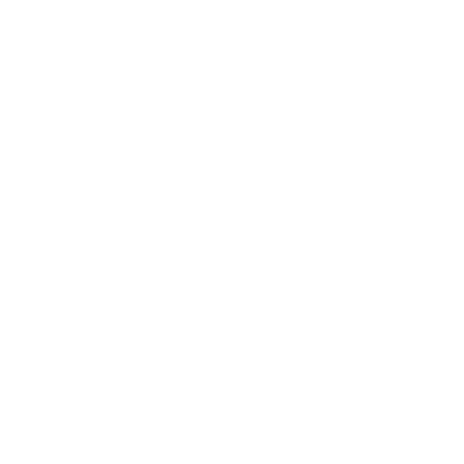
«Чудесная жизнь автора предисловий», 1998−99
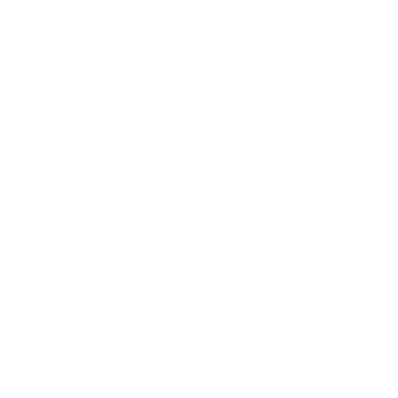
Ален Польц
(1922—2007)
Так начало их пути выглядит сегодня. Теперь здесь есть эскалатор, раньше была только лестница, подниматься по которой героям романа тяжело. Если отойти чуть подальше виден будет «почтовый дворец» — здание центрального офиса Почты Венгрии, построенное в 1924—1926 гг. по проекту Дюлы Шанди в эклектичном стиле с элементами сецессии (внутри здесь, кстати, был установлен первый в Венгрии лифт непрерывного движения, так называемый «патерностер»). В 2020 г., после реконструкции, в здании собирались открыть музей денег и истории банковского дела.
Название «проспект Мучеников» с 1945 по 1992 гг. носил Маргит кёрут, проспект характерной для Будапешта и Вены кольцевой формы (ринг), который идет от моста Маргит в Буду и заканчивается у площади Москвы; сейчас улица с таким же названием (Мучеников) есть в 22-ом районе Будапешта. На фотографии с Фортепана 1952 г. тюрьма еще стоит, она здесь — фон для шахты строящегося метро, но вскоре ее, как замечает рассказчик, снесут. Сегодняшний парк «Милленариш» с его индустриальной ноткой, раскинувшийся неожиданно просторно на задворках торгового центра «Маммут», уже ничем не напоминает о тюрьме, где в 1919 г. казнили «ленинских мальчиков», в 1940-е гг. — коммунистов и евреев, в том числе Ханну Сенеш, где сидели Янош Кадар и Ласло Райк, где в годы террора Ракоши (до 1951 г.) вешали по сто с лишним человек в год. Исчезнувшие в физическом мире, но присутствующие в параллельных измерениях памяти места — излюбленный ландшафт Месея.
Архитектурная доминанта этого пространства — несколько раз упоминаемая в романе церковь Сердца Христова. Мне она долгое время казалась недосягаемой, точнее, не вполне умопостигаемой. В привычном мне архитектурном ландшафте отсутствует сакральная постройка в стиле Баухаус. Могу представить, почему даже в 1933 г., когда церковь была построена, приход ее не очень-то и одобрил. В 1942 г. в нее действительно попала бомба — на этом месте сейчас стоит статуя Девы Марии. В комплекс входят небольшая церковь-часовня в трансильванском стиле и чистые и прекрасные объемы (изнутри украшенные в том числе и гигантскими картинами Вилмоша Аба-Новака) большого храма, ритмичная галерея и высокая колокольня. Архитекторы — отец и сын, Аладар и Берталан Аркаи.
