Бела Тарр
интервью для журнала «Сеанс», 2011
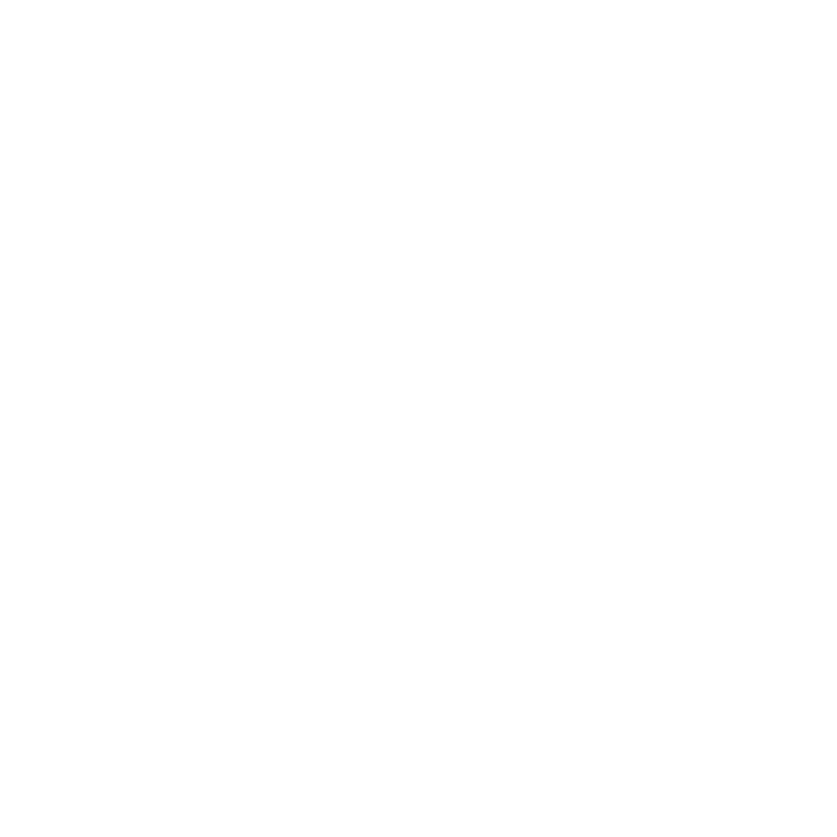
Бела Тарр
Мне, кстати, совершенно непонятно, зачем надо «брать интервью» у Белы Тарра. Все, что можно спросить про учился, работал, уже спросили тысячу раз. Достигнутый Тарром уровень простоты и ясности киноязыка вообще не предполагает вербализации. В каком-то смысле, это не просто «конец фильмографии Белы Тарра», но и конец кино, язык которого опирался на неранжированную объективность (Миклош Месей «Камера Уорхолла»). Понятно, что в рамках разных фестивалей, как и все кинолюди, он дает интервью, но там другие правила игры. В общем, до начала встречи я осознавала, что никакого желания отвечать на очевидные вопросы у Тарра не будет. Помимо производства в сознании абсолютного счастья и веры в возможности кино как искусства, фильмы венгерского гения (будем честными — и не потому что Зонтаг сказала!) стимулируют, конечно, разнообразную рефлексию, но вываливать ее тому, кто все это сделал, кажется мне совершенным идиотизмом. С первого момента ясно, что интервью вызывают у режиссера глубокую тоску. Он обреченно смотрит и говорит: «Ну давайте, спрашивайте»
Вчера Миклош Янчо сказал, что производство венгерских фильмов большого смысла не имеет [кроме этого он еще сказал, что Тарр абсолютный гений, а «Туринскую лошадь» сам Янчо посмотрел два раза], он прав?
Не уверен, что он это имел в виду. А я делаю венгерские фильмы. Какие еще фильмы я мог делать? Точнее, не венгерские, а связанные с моей конкретной личностью.
Все эти истории про «последний фильм Белы Тарра» кажутся мне вполне убедительными: куда дальше-то? Но многие подозревают некоторое кокетство.
Какая разница, кто что говорит. Я в течение 34 лет разрабатывал свой стиль. В кино я пришел в 22 года, и с тех пор говорю на этом языке. Если взять мой первый ["Осенний альманах"] и последний ["Туринская лошадь"] фильм, станет ясно, что это последовательный путь, который сейчас достиг финала. Лестница, по которой я шел от фильма к фильму. Это ничего не значит, просто я больше не буду снимать кино. Все это время я существовал с фильмами в голове.
То есть, ты снимаешь [в венгерском переход на ты происходит в разы быстрее, чем в русском] уже готовый фильм?
Да, формирование фильма происходит с утра до вечера, может продолжаться даже во сне. Так просто не отмахнешься. Любое искусство совершается аналогичным образом. Можно, наверное, сравнить с тем, как действует наркотик, только здесь это воздействие не прекращается. Процесс съемок происходит относительно быстро. Я начинаю фильм, точно зная, чем он закончится. Время обдумывания действительно может тянуться довольно долго, но к моменту начала съемок фильм уже готов.
Но ведь тебе все равно приходится что-то объяснять словами?
Нет. Я говорю: иди туда, подойди сюда, сделай это – ничего не объясняю. [Бела начинает двигать на столе пачку сигарет и зажигалку, как Чапаев картошку].
Как Хичкок?
Не знаю, я у него на площадке не был.
Про твои фильмы даже не хочется ничего спрашивать: все до боли прозрачно, ничего лишнего.
Вот именно [Бела заметно оживляется] — не люблю я эти все финтифлюшки.
Значит ли это, что в какой-то момент съемочный процесс в голове прекратился?
Да, просто перестал сниматься новый фильм. Чем буду теперь заниматься — не знаю. Но тот, кто творит, абсолютно точно знает, когда история заканчивается.
Если бы все ставили точку в нужный момент…
Да уж, но если не хотят останавливаться — это их дело. Люди разные. Все люди разные. Сейчас скажу важную вещь [Бела следит, чтобы я записала]: когда я смотрю на зрителей, выходящих с моего фильма — на молодых, тех, кому около двадцати, — у них счастье на лице, глаза горят. Я не хочу, чтобы они выходили из кино и смеясь говорили: «Ну вот, опять он снял то же самое». Не хочу, чтобы глумились.
Я уже везде был, все видел; везде одна и та же картина: нищета, печаль, безысходность. И я понимаю, что помочь ничем невозможно. А что я могу сделать? Везде все одно и то же.
Люди вообще стремятся к привычному.
Это так, людям хорошо в знакомой среде, но, с другой стороны, им все время хочется открыть новую землю. И все разные. Это как-то оправдывает наше существование, в целом. Одинаковых людей нет. И коров одинаковых нет, и кошек. У меня было пять кошек, и каждая следующая была не похожа на предыдущую. Вот и люди. Только общество их все время стремится уравнять, навязать единую модель. Ничего удивительного — одинаковыми существами проще управлять. Но ведь нам не нравится, когда нами пытаются управлять.
Хорошо, фильмы ты больше снимать не будешь. Придется учить какую-то новую грамматику? Где планируешь поселиться?
Хочу жить здесь, в Венгрии. Может, это возраст. [Мы оба долго смотрим в окно на типичные для Венгрии черепичные крыши пирамидкой и голые деревья].
Но ведь и здесь, мягко говоря, сейчас не рай.
Не то слово. Да и непохожесть, всегда отличавшая венгров от окружающего мира, тоже постепенно сходит на нет. Но про венгерские дела я бы предпочел не говорить. [Бела встает, начинает беспокойно ходить. После скандала с интервью газете Тагесшпигель, нежелание режиссера обсуждать эту тему вполне объяснимо; понятно, почему Бела Тарр сейчас вообще не склонен давать никакие интервью — любое публичное слово в сегодняшней Венгрии может привести к такому разливу мерзости, что человек тонкой настройки предпочитает молчать ].
[Пытаюсь перевести разговор на другую тему] Зато теперь можно сделать паузу. Ты уже стал частью универсума.
[на этой фразе Тарр хитро улыбается — отпустило] Это правда.
Вот, собираюсь в Москву. Не был там с 76, кажется, года. Хочется посмотреть, как все изменилось.
Думаешь, теперь твои фильмы примутся у нас по-настоящему, а не только на фестивалях?
Пришло время. Они же долгоиграющие.
До беседы мне был непонятен ее смысл (если бы можно было разговаривать кадрами, думаю, разговор получился бы куда более полноценным), но во время «интервью» не покидало ощущение нахождения в тарровском пространстве, растянутом ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы высказывание обрело завершенность.
