Пал Завада
Базарный день
отрывок
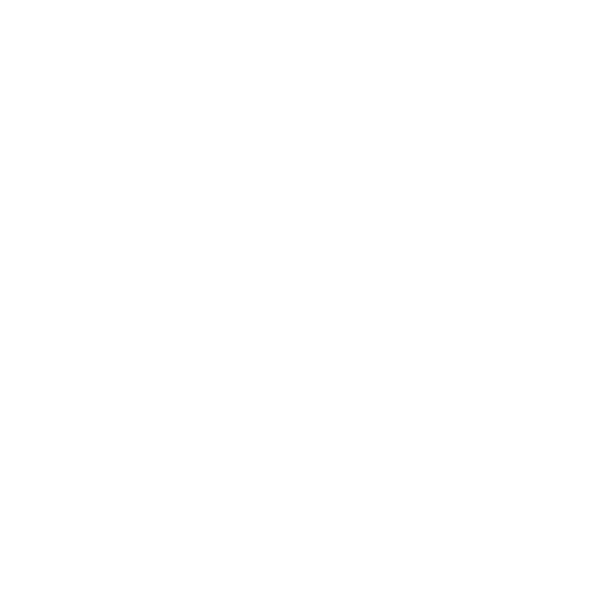
Пал Завада
Этот небольшой роман переведен уже, кажется, чуть ли не на все европейские языки — по крайней мере, новости о выходе очередного перевода доходят до меня с некоторой регулярностью. Как и всегда, Пал Завада писал его, опираясь на реальные истории и документы, а получилось — как будто про сегодня.
В романе автор исследует проблемы, с которыми столкнулась послевоенная Венгрия в 1945−46 гг., в частности, историю еврейских погромов. Воскресным майским днем 1946 г. в небольшом надькуншагском городке, на рынке местные женщины вдруг набрасываются и до смерти замучивают еврея-торговца яйцами. Свидетелем преступления становится рассказчица, жена учителя, которого параллельно обвиняют в призывах к военному сопротивлению против советских войск в конце войны. Коллективная агрессия постепенно охватывает всех жителей. Пал Завада — как писатель, с одной стороны, и как социолог, с другой — пытается понять механизм «раскрутки» ненависти к «другому/другим» и возможность (или невозможность) преодоления этого безумия.
Точно могу сказать, в какую минуту меня пронзила мысль, что самый тяжелая молния в эту грозу ударит по нам. И что если я в ужасе зажмурю глаза, это ни от чего теперь уже не спасет. Что я могу ринуться домой и зарыться головой в подушки — так мне мерзко что они устроили — но этим тоже ничего не добьюсь. Потому как кошмар, случившийся на наших глазах, угроза уже не только для других, — мы сами станем мишенью всех этих воинственных настроений, вот что мне стало ясно в ту минуту. Точнее сказать, в тот момент, когда по улице Гёрбе, что за рынком, на глазах у все еще возбужденной толпы распахивается вторая створка наполовину приоткрытых главных ворот, и незнакомый полицейский спиной вперед вместе с еще одним в гражданском выносят беспомощное тело, подхватив его под мышки и под колени, а я смотрю в ту сторону. И не сразу — ведь взгляд невольно останавливается на окровавленной ране внизу живота, что видна через разорванные брюки, а на разбитом в месиво лице нетронутой осталась только козлиная бородка, — но по мере того, как начинаю отходить от оцепенения и внимательнее присматриваюсь к жертве, узнаю в ней торговца яйцами Ференца Гроса. Помогает понять, кого несут, еще и то, что я стою как раз перед подъездной дорогой к его дому. Туда сейчас заехал небольшой грузовичок, из него выскочил тип в кепке — мол, разрешите поинтересоваться, с такой вот неожиданной учтивостью спросил у меня дорогу, — с тем, чтобы затем, вместе с двумя другими уложить раненного на обитый жестью голый пол кузова и умчаться с ним.
Господи, помилуй, ужас-то какой, прошептала я про себя, Ференц, бедненький вряд ли такое переживет, и с этого момента начинается новая глава. Ведь если начнут искать, кто виноват, вот увидите, на нас покажут.
Завернула обратно на главную улицу, где все сверкало от осколков побитых стекол, но народ как раз разошелся, и направилась к родительскому дому. Я знала, что нашествие русских за полтора года до этого отца моего кое-чему научило, и была уверена — увижу его галантерейный магазин в целости и сохранности — в отличии от только что разгромленных лавок и разнесенных в щепки рыночных магазинчиков: обе витрины у него и сейчас заделаны шторами из нержавейки, так просто не сорвешь, да и жалюзи деревянные в доме он вовремя опустил, ворота запер. Но сейчас я к ним заходить не собиралась — не хотелось выслушивать отцовские рассуждения и добрые советы насчет происходящего на улице, он явно и сейчас будет свое решительное мнение высказывать, да только я сама там была, своими глазами видела, в отличие от него, — поэтому решила и по параллельной улице не идти, чтобы нечаянно не разбудить Юльчу через окно в домике для прислуги.
По возвращении домой с мужем тоже совсем не хотела говорить — наверное, именно из-за этого подсознательного страха: вдруг в его случае опаснее всего как раз то, что сейчас там снаружи творится, а ведь он ничего с этим сделать не может. Обманула его, сказала, мол, до самой площади и не пошла, потому как оттуда доносились крики, говорят, пара-тройка хулиганов распугала торговцев, ящики все на землю попадали. Но я перекинулась буквально парой слов с Юльчей через окошечко, родители, говорю, заперлись, им ничего не нужно, а в переулке, что за домом, как бегала туда-сюда, ничего такого особенного не видела. То есть, не только не стала ему рассказывать, что там на самом деле происходит, но и утаила, что прямо у меня перед носом пронесли избитого до смерти Ферку Гроса, из-за чего меня и охватил такой ужас.
Хотя всего, что я ему выпалила, хватило бы максимум на полчасика, а не на полтора часа, Шандора это ничуть не смутила. Однако же я приметила, что даже в таком отфильтрованном виде новости его взволновали, и он начал вслух размышлять, какие масштабы может приобрести все это безобразие и сумеет ли полиция достаточно быстро восстановить порядок, но заставил себя успокоиться. Пошел опять налил себе из эмалированного чайника остывший безвкусный суррогатный чай и принялся опять выписывать своим бисерным почерком названия вредителей злаковых культур из толстого справочника в тетрадку, разлинованную в фиолетовую линейку. Даже головы не поднял, когда я сказала, мол пойду прилягу-отдохну. Хорошо, Маришка, иди, конечно, и давай опять страницы перелистывать — искать что-то.
*
Закрыла ставни, легла и стала вспоминать утро дня накануне, с каким тревожным волнением отправлялись мы из дому. Но как даже представить себе тогда было невозможно все то, что случилось с тех пор, в том числе и этот страх.
Больше того, когда мы там стояли, много нас было, заступников, кто собрался и стоял на утреннем солнышке. У меня к беспокойству примешивались и воодушевление, и надежда, а вдруг все еще по-хорошему выйдет. В тот день, 20 мая сорок шестого года мы встречались с мелкими хозяевами* из Кунвадаша перед их церковью, чтобы всем вместе проводить учителя, Шандора Хаднадя — мужа моего — на заседание народного суда в Карцаг. Чтобы выказать наше уважение достойнейшему из людей, как сторонники Шандора о себе заявляли, и они всерьез так думали, без преувеличения. Ведь человека, который учит их детей, обвинили в том, что, на самом деле, давно уже превратилось в устаревшие и бессмысленные кривотолки, да еще и трезвонили об этом последние дни на всех углах. Мол, Шандор в прошлом — еще в те времена! — якобы разводил на рынке «милитаристскую пропаганду», что называется.
* «Мелкие хозяева» — это и в буквальном смысле владельцы небольших фермерских хозяйств, и члены «Партии мелких хозяев», существовавшей с перерывами с 1908 г. На первых выборах, которые состоялись в Венгрии после Второй мировой войны, эта партия заняла большинство мест в парламенте, а ее лидер, Золтан Тилди стал премьер-министром, однако в 1947 г. к власти пришли коммунисты, и многие члены Партии мелких хозяев были арестованы или эмигрировали, а сама партия в 1949 г. самоликвидировалась.
— Как это вообще следует понимать? Неужто на него и вправду из-за этого дело завели?! — продолжали возмущаться сочувствующие — все, кто сейчас ради него собрался.
Однако же, когда из толпы бездельников на другой стороне улицы внезапно отделился тип в заляпанных брюках, по виду — из тех, что на день работать нанимаются, подошел поближе и с издевкой спросил:
— А что если не только за это? И обвиняют учителя не только в этом? — с этими словами он оглянулся назад, где стояли еще три, а то и четыре парня той же масти, и теперь они, точно по сигналу принялись наперебой выкрикивать обвинения. Вроде того, что зенки выкатили, заступнички, учитель-то ваш — реакционер, что, господам, мелким хозяевам что-то не по нраву пришлось? И прочие дерзости. Мол, черного кобеля не отмоешь добела. А еще хвалились, что состоят в противоположном лагере, примыкают к местной коммунистической молодежи. Спрашивали, слыхали ли мы про Венгерский демократический союз молодежи, Мадис. Якобы они его члены. И готовы подробном объяснить, в чем, на самом деле, обвиняют Шандора Хаднадя. Если нам интересно, суть в том, что в сентябре 44-го, когда фронт был уже совсем близко, он вооружил доверенных ему подростков из Левенте** и забрал их с собой.
** Левенте — основанная в 1921 г. военизированная юношеская организация (изначально была попыткой обойти запрет воинского призыва, наложенный на Венгрию после Трианонского договора). С 1939 г. членство в ней стало обязательным для мужчин с 12 до 21 года. Несмотря на явные параллели с Гитлерюгендом и Балиллой, Левенте не декларировала фашистские лозунги, хотя, безусловно, не была свободна от присущих общей политической линии нацистских настроений.
— Чтобы их спасти! — ответил на это откуда-то сбоку мужчина с ровно подстриженными усами в костюме и шляпе — муж мой, или же учитель Хаднадь собственной персоной. Я стояла там же, непосредственно у него за спиной.
— Враки, вовсе не для этого! — попытались заткнуть ему рот крикуны.
— И не для чего больше! — отрезал мой муж. — Русские охотились именно за такими мальчишками, их бы тут сразу переловили, а как попал к ним на крючок, следующая станция — Сибирь!
— Все вы врете! Вы этих мальчишек затем с собой утащили, чтобы против русских воевать! Реакционер! Путаетесь в показаниях! — выкрикивали поденщики-мадисовцы и, по-детски бахвалились, мол у них сознание левое, но при этом от них жутко воняло.
— Ты их затем и вывел на оборонительный рубеж! Признайся! — проорал один из оборванцев, еще и тыкать начал моему мужу, наглец.
Шандор на эти слова вытащил из внутреннего кармана серебряный портсигар, постучал по крышечке и заправил выскочившую сигарету в мундштук:
— А коммунисты-предатели родины, — он зажал мундштук между зубами и со свистом продолжил, — пусть лучше рты-то закроют!
— Он еще указывать нам будет? — набросились на него эти типы всей компанией, а он щелкнул своей бензиновой зажигалкой и неторопливо закурил. — Позор! Раскукарекался тут! Детей под пули!!!
— У них ни один волос с головы не упал, — Шандор отрицательно покачал головой, выпустив изо рта облачко дыма. — Я всех привел домой с запада, все шестнадцать вернулись, в целости и сохранности.
— Так оно и было, он правду говорит, — наконец-то вступились за товарища и наши друзья из мелких хозяев. Впереди всех стоял хороший мужнин друг, Гергей Катаи. На самом деле он был предводителем депутации, пришедшей на суд, но, не желая ничем таким тормозить дело, пока молчал, даже теперь только стоял и быстро поглядывал по сторонам с холодной улыбкой. Народ уже начал собираться поближе, чтобы идти к суду. Кто до этого передавал по кругу плоские бутылочки с палинкой, заткнули их обратно пробками, а остальные переговаривались, мол, Шандор все верно сказал. Русские бы сразу тех мальчишек забрали, погнали бы аэропорт строить или прямиком на Урал отправили.
— Кудахтанье свое можете прекратить, — крикнули тем долдонам, — господин учитель — герой, всех ребят привел домой, до одного. Только за одно это мы идем защитить Шандора Хаднадя, мы на него рассчитываем, — вот как люди говорили.
И потому что он достойный человек. Хороший венгр и учитель хороший.
— Учитель венгерского?
— Нет. География-биология.
— И все-таки его суд первой инстанции осудил, — начал объяснять кто-то из пришедших, хотя тут все об этом знали, потому и собрались, что процесс заново начали. Из-за того унизительного приговора, того, что в июне 45-го вынесли, такая буча во всей округе поднялась, что в конце концов его были вынуждены отменить. Уже и тогда все знали, что эти наспех собранные народные суды по чужим нотам играют, которые от коммунистов получают, а их приговоры никакого отношения к справедливости не имеют.
— Потому что показания против тебя дали лжесвидетели, Шандор!
— А то, социал-демократы же, — закивали многие. Пара человек переглянулись и решили это пообсуждать.
— Не в том смысле социал-демократы, не все они и социал-демократы. А эти, которые вернулись из этих, как называются.
— Чего? Откуда?
— Кто?
— Да, кто.
— Ну, эти…
— Из них все народные суды и состоят, все до одного, понимаете…
— Конечно, и доносчики все.
— Порядочный венгр им как кость в горле.
— Слушайте сюда! — опять подошел к нашим мелким хозяевам тип в грязных штанах, — По-вашему, тот, кто своим собственным ученикам, детям практически, дает оружие, чтобы повести на войну, это порядочный человек?
— Не говоря уж о том, на чьей стороне он их ведет воевать! — зашумели остальные мадисовцы. — На стороне фашистов против освободителей! Его за это как раз и осудили в первый раз на четыре с половиной года, а потом-таки отпустили.
Я стояла там между двух переругивающихся компаний и, ощущая, что меня сейчас вырвет, только в этот момент поняла, что мне во всем этом неприятнее всего: с обеих сторон меня душила страшная вонь. Причем, воняло по-разному с каждой стороны — слева, от этих оборванцев в нос бил резкий запах лука и теста, а справа, от сочувствующих нам односельчан противно несло палинкой и чесноком.
— И для ясности, — повысил голос муж. — Вынесенный мне приговор Совет народных судов аннулировал. На законных основаниях. Всем понятно?
Но оборванцы не унимались и продолжали спорить, мол, в судейском совете якобы не была представлена Крестьянская партия! А отменили приговор не в силу отсутствия состава преступления, а исключительно по формальным причинам. И тут же назначили новое слушание.
Тут я почувствовала, что пора мне вмешаться:
— Муж мой невиновен, это все знают, — внезапно вышла я вперед. До сих пор никто и внимания не обращал, что я тоже здесь. — У него постановление об этом имеется. Целый год прошел, — продолжала я объяснять, хватая ртом воздух, — и не сразу вызвали в суд второй инстанции, а через год. Потому мы решили обратиться за помощью к партиям, я, вот, поговорила с местным отделением Демократического союза женщин. И, как оказалось, не напрасно: все один за другим подали ходатайства в народный суд, чтобы делу мужа дали благоприятный для нас ход. Все, кроме социал-демократов — эти ничего не написали. Как считает Шандор, удивляться тут нечему, Карой Вюрцель не только секретарь местных соцдемократов, дело в том, что он еще и…, ну да бог с ним. Здесь не это важно, а то, что он — один из свидетелей обвинения в мужнином процессе. Так он, конечно, не подписал.
И тут, наконец, заговорил Гергей Катаи — как будто только для того, чтобы прекратить пустую перебранку и не тратить зря время, — но прозвучало это так, словно он решил сообщить радостную весть:
— А кто главные свидетели, все знают. Ференц Хамош, секретарь компартии, и жена его, Ирен. Они тоже не подписали, это и так ясно. А теперь вперед, не то на суд опоздаем.
Фото: Fortepan / Bor Dezső
