Оксана Якименко
Ференц Шанта
снимает пятую печать
снимает пятую печать
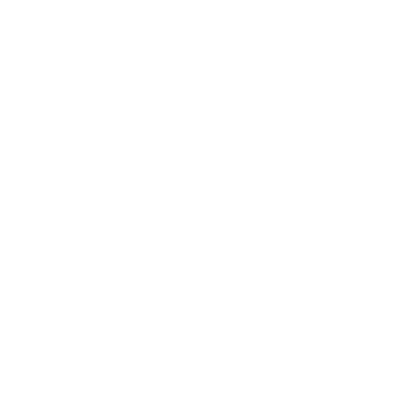
Ференц Шанта
(1927−2008)
«Пятую печать» Ференца Шанты можно актуализировать каждое поколение. Вот и сейчас сложно представить текст более злободневный. Сегодня всё вокруг (в том числе и в литературе) резко выходит из области эстетического в пространство этического. И, как выясняется, мало кто из современных авторов, на каком бы языке они ни писали, умеет говорить об этическом эстетически и не однобоко, пытаясь разобраться в логике каждого выбора.
Наполненное массой приевшихся аллюзий словосочетание «нравственный выбор» обретает в нашей повседневной жизни невероятное количество смыслов. В конечном итоге, чему бы ни учила нас история, выбор-то все равно приходится делать здесь и сейчас, даже если тебе кажется, что ты его не делаешь, или что обстоятельства (люди, государство — можно подставить сколько хочешь субъектов) тебя к нему не принуждают. А стоит сделать этот выбор, как он сразу, словно ракушками, тянущими корабль ко дну, облепляет тебя последующими решениями, которые приходится делать в русле избранного курса.
Ференц Шанта (1927−2008) оставил после себя не так уж много текстов — три философски-исторических романа: «Пятая печать», «Двадцать часов» и «Предатель», несколько сборников рассказов и эссе, однако его проза занимает особое место в венгерской литературе, к ней регулярно возвращаются критики, философы, публицисты и психологи, как только заходит речь о формировании этических норм, а перед обществом и отдельными людьми встает очередная необходимость сделать тот самый нравственный выбор. Чтобы чуть лучше понять, почему эта книга появилась, и что за человек ее написал, стоит немного подробнее рассказать об авторе.
Детство Ференц Шанта провел в Трансильвании — той ее части, которая после Трианона отошла к Румынии (родился в Брашове, детство провел в Тыргу-Муреше и Клуж-Напоке — бывших венгерских Брашшо, Марошвашархее и Коложваре), сразу после войны, в 1945 г. поехал учиться в венгерский Дебрецен. В интервью Гезе Ваши (опубликовано в сборнике «На пороге свободы» в 1974 г.) на вопрос «Как сформировалось ваше мировоззрение, нравственная картина мира?» Шанта отвечал: «Значительную роль сыграло то, что я родился в бедной семье и прожил детство, юность и значительную часть взрослой жизни среди бедных людей — я мог бы сказать, что это обстоятельство стало определяющим для всей моей жизни, образа мыслей, поведения.» После недолгой учебы в реформатском училище в Дебрецене будущий писатель рано женился, растущую семью (один за другим родились четверо сыновей) надо было кормить, и Ференц Шанта отправился работать в шахту, позже устроился на тракторный, а потом — на судостроительный завод. И в 1954 г. произошло то, что он описывал в уже в другом интервью журналу «Уй ираш» десять лет спустя:
Пошел с двумя друзьями на литературный вечер. Там говорили о бедах и тяготах жизни в венгерской деревне. Разговорился и я. Рассказал все, что наболело. […] Кроме прочего и то, что народ стирает из своей памяти тех, кто пишет неправду. И столько всего выплеснул, что мы с друзьями подумали: надо быстро сматывать удочки. Пали Сабо вышел за мной вслед и спросил: «Есть у тебя что-нибудь из написанного». Я ответил, что нет. «Но ты же пишешь», — не отставал от меня Сабо. «Нет», — отвечал я. А он: «Наверняка у тебя что-то есть, ты явно из тех, кто пишет даже когда не пишет». [Первый свой рассказ «Нас было много»] я написал за два года до того. В пятьдесят втором. Практически на улице. Шел домой удрученный и вдруг начал про себя проговаривать. Потому что не мог молчать. Потом написал и отложил. На дно ящика в столе, между книжек засунул. Когда Пали попросил меня его прислать, на бумаге уже почти и не видно было ничего. На следующий день я взял рассказ с собой на тракторный завод «Красная звезда», отпечатал его на машинке и послал.
Пал Сабо (1893−1970) — венгерский писатель, журналист, политик, активный участник движения «народных писателей», редактор нескольких литературных журналов, один из основателей Национально-крестьянской партии, депутат парламента, первый председатель Патриотического народного фронта.
Реакцию читателей и критиков на первый рассказ Ференца Шанты сравнивали с откликом на первый опубликованный рассказ классика венгерской литературы Жигмонда Морица «Семь крейцеров». Откровенное повествование о наболевшем в разных смыслах «попало в струю» — в это же время вышло партийное постановление «Об отдельных вопросах новой венгерской литературы», предлагавшее писателям «начать с чистого листа» в условиях некоторого ослабления цензуры после смерти Сталина и постепенного отхода от жесткой диктатуры Ракоши. В это небольшое оттепельное окно до 1956 г. успело проскочить целое поколение авторов, многие из которых во многом продолжали традиции движения «народных писателей» с его стремлением найти некий третий, уникальный венгерский путь, рассказать о настоящей, а не выдуманной и отлакированной жизни венгерской деревни, о страданиях обедневшего крестьянства. Чем-то вроде манифеста нового поколения венгерской литературы стала антология «Посвящение в люди», название которой дал рассказ Ференца Шанты. «Несмотря на тематические, идейные и прочие различия, впоследствии разведшие этих писателей по разные стороны баррикад, читатели-современники стали свидетелями не просто начала творческого пути нескольких писателей, но появления цельного, единого поколения со своей программой», — так описывает эффект появления этой книги венгерский литературовед Бела Помогач*. С одной стороны, авторы сборника (Иштван Чурка, Дёрдь Молдова, Иштван Сабо, Эржебет Галгоци и многие другие) продолжали уже сложившуюся литературную традицию, используя народные мотивы, специфическую стилистику, традиции трансильванского (в духе Тамаши Арона) или окраинного (с интонацией Ивана Манди) «магического» или, как его называют венгерские литературоведы, «фейного» реализма, и, одновременно, развивая социографическую линию (самое известное произведение венгерской литературы в этом жанре — «Люди пусты» Дюлы Ийеша — есть и на русском языке). С другой стороны, почти все они были автодидактами, пришли в литературу от станка, сохи или из провинциальной прессы, и, в первую очередь, стремились поделиться собственным опытом, личными переживаниями, что сообщало их текстам и новую, прежде не разрешенную искренность, и, безусловно, некоторый романтический флер.
*Pomogáts Béla. Az "Emberavatás" nemzedéke / A magyar irodalom története 1945−1975 III. A próza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. P. 964.
В 1960-е годы венгерская литература начинает активно рефлексировать на темы, связанные с событиями Второй мировой войны – отчасти в связи с некоторым «смягчением» культурного климата после диктатуры Ракоши конца сороковых – начала пятидесятых и снятием жестких ограничений, наложенных на культуру после событий 1956 г. На фоне целого ряда романов, рассказов и пьес, основой для которых становились документальные сюжеты (из выходившего на русском можно отметить повесть Тибора Череша «Холодные дни» (1964)* о массовых убийствах венграми евреев и сербов в городе Нови Сад) роман «Пятая печать» Ференца Шанты выделялся своей нарочитой отстраненностью и близостью к притче, при том, что исторические детали и указания на конкретные события считывались современниками безошибочно.
* Череш Т. Холодные дни. – М., Радуга, 1985. Перевод: О. Громов.
Место действия романа — Будапешт, герои — обычные горожане, типичные «маленькие люди», ремесленники, мелкие предприниматели: книготорговец Кираи, столяр Ковач, часовщик Дюрица и Бела, хозяин заведения, где все четверо собираются выпить вина и поговорить предзимним вечером 1944 г. (позднее к компании друзей присоединяется не знакомый им прежде фотограф Кесеи — он-то и станет game changer в судьбах героев и сюжете романа). Это время — одна из самых мрачных страниц в истории Венгрии ХХ века: 17 октября 1944 г. после государственного переворота к власти в стране пришла прогерманская национал-социалистическая Партия скрещенных стрел. Пик венгерского Холокоста пришелся на апрель-июнь 1944 г., когда премьер-министром был еще Стояи, лидер же нилашистов Салаши, пробывший у власти с середины октября 1944 г. по февраль 1945 г. развернул террор уже не только против евреев, но против всех, кто не хотел идти воевать на стороне Германии, брать в руки оружие, то есть, в отношении «врагов режима». В этой ситуации постоянного страха и напряжения персонажи романа пытаются сохранить некое подобие привычной жизни, однако традиционный вечерний ритуал встречи старых приятелей нарушает появление бывшего солдата-инвалида, потерявшего ногу на Восточном фронте, которого автор сразу называет «человечком» (emberke), словно предупреждая о мелкой и опасной в своей мелочности натуре нежданного посетителя. Еще до его появления становится более-менее понятна привычная для героев «расстановка сил» — все они, пусть и не близкие друзья, но давно и хорошо знают друг друга: европеизированный либерал Кираи, добродушный консерватор Ковач, простоватый, на первый взгляд, но наблюдательный и cметливый трактирщик Бела и язвительный «тролль» Дюрица. Именно в его уста Шанта вкладывает притчу, служащую ключом к роману — к ней мы еще вернемся. Последствия реакций каждого из участников вечернего разговора (так и хочется написать «вечери») на главный вопрос притчи, кем бы они желали стать — не знающим жалости и угрызений совести тираном или совестливым, но покорным рабом, готовым терпеть любое насилие. Участники разговора со всей серьезностью начинают обсуждать предложенную гипотетическую ситуацию выбора, понятным образом проецируя ее на то, что происходит за стенами уютного заведения, напряжения дискуссии добавляют и представители «зла», двое нилашистов, зашедшие выпить палинки (они тоже являют собой архетипические фигуры — один «с умным… тонким, почти изящным лицом, спокойным и самоуверенным взглядом» и нескладный, неотесанный силач, похожий на грузчика). После их ухода все так или иначе выражают недовольство новым режимом.
Стоит отметить и то, что все эти «маленькие люди», вопреки привычному — во многом, конечно, обусловленному многочисленными книгами и фильмами стереотипу — отнюдь не питают иллюзий относительно происходящего, не пытаются оправдать действия властей («Вы слышали чтоб когда-нибудь варили мыло из человечьего мяса, костей и жира… Об этом, правда, не полагается говорить, но мы-то все знаем, что творится вокруг,» — яростно обличает нацизм и «одного высокомерного типа» Кираи). Внезапное признание инвалида-фотографа в готовности выбрать участь раба вызывает у героев недоверие, а часовщик даже обвиняет его во лжи, после чего, разгоряченные спором, все расходятся по домам, и автор дает возможность подробнее познакомиться с трактирщиком, книготорговцем, столяром и часовщиком в домашней обстановке. Неожиданно выясняется, что циник и резонер Дюрица превратил свой дом в убежище для еврейских детей — он прячет их от нилашистов, кормит, утешает, делает с ними уроки.
Дальнейшие события — донос уязвленного фотографа Кесеи, вторжение нилашистов, допросы в полиции, выбор, который приходится делать каждому из героев — развиваются по нарастающей и достигают кульминации в сцене с «гомункулусом», арестованным за антифашистскую деятельность литейщиком, чье имя читатель так и не узнает. Некий человек в штатском (своеобразный серый кардинал, отдельного внимания заслуживает «урок», который он преподает тому самому нилашисту-интеллигенту, что накануне зашел в трактир к Беле) вынуждает всех приятелей пройти своеобразную проверку, подтвердить или опровергнуть те моральные принципы, которые они заявляли в ходе своих теоретических дискуссий о выборе и личной ответственности. Оказавшись, по выражению самого Шанты, «на пороге ада», в конкретной, а уже не гипотетической ситуации, герои вынуждены принимать решение уже с учетом непосредственной угрозы собственной жизни и делают это очень по-разному. Здесь автор снова подробно останавливается на поведении и рассуждениях каждого из героев, подчеркивая сложность и даже невозможность правильного выбора в подобном положении.
Шанта соединяет в своем романе художественный вымысел — придуманный сюжет, который, тем не менее, вполне правдоподобен и способен помочь читателю лучше осознать историческую реальность, и философскую притчу, отсылающую как к морализаторским средневековым историям, так и к притчевой прозе Камю. Отправная точка, символический смысл романа даны в названии, взятом из «Откровения» Иоанна Богослова (5 и 6 главы) — той части, где Агнец снимает с запечатанной книги пятую печать:
“
9. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на Земле за кровь нашу?
11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на Земле за кровь нашу?
11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
Бесчисленные толкователи «Откровения» понимают книгу по-разному — и как собранные вместе знания о прошлом и будущем, записанные судьбы мира, и как божественный замысел, реализуемый в истории, а снятие печатей — как начало Суда, осуществление намерений Бога относительно мира, раскрытие пророчеств, восстановление близости к Богу и т. д. Однако, как бы мы ни интерпретировали эти строки, параллель с событиями романа очевидна — речь в нем идет о тех, кого убивают за свидетельство о Божьем слове, о праведниках, не отказавшихся от важных для себя нравственных принципов — если перевести ситуацию на более современный язык. Бела, Кирай и Ковач гибнут каждый за свою веру, а она у них, как детально показывает Шанта и в картинах домашнего быта, и в рассуждениях — особенно в момент главного выбора, очень разная. Тем не менее, все они — приверженцы общегуманистических принципов «старого» мира. Каким же становится высший нравственный закон в условиях абсолютного расчеловечивания современного мира (конкретнее, ХХ века), «смерти бога» и «невозможности писать стихи после Освенцима»?
Отчасти ответом на этот вопрос служит не менее важный для понимания романа эпиграф из 17 главы Деяний апостолов: «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано „неведомому Богу“. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». В библейском контексте этот фрагмент принято толковать и как указание апостола Павла на то, что истинный Бог его слушателям-язычникам неведом (рассказ жертвеннике фигурирует в его проповеди «Речь в ареопаге», обращенной к афинянам), использование этого образа для разговора об истинном Боге, или как попытку уйти от обвинений в проповедовании новых богов и стремление показать, что предлагаемое им учение связано с тем божеством, которого афиняне уже почитали, сами того не ведая. В мировоззренческой системе Ференца Шанты нового, «неведомого» бога можно найти в человеческой совести — именно она руководит нами, даже если мы не в состоянии отчетливо сформулировать или объяснить ее указания. Но это, как неоднократно говорил сам писатель, и необязательно, главное, чтобы человек творил добро (благо), а уж в духе каких идей — не так и важно. С этих позиций, и поведение верующего христианина Ковача, который отказывается ударить подвешенного заключенного (распятого как христианский мученик или сам Христос), и поступок Дюрицы, решившегося на удар во имя спасения оставленных дома детей, есть благо. Точно так же и зло остается злом — будь оно очевидным и демонстративным, как в действиях человека в штатском, или же скрытым за демагогическими рассуждениями у Иуды-Кесеи, на словах готового стать жертвой, а на деле — предающего незнакомых ему людей из мести за свое унижение.
Показательно, что в первой публикации перевода на русский язык, вышедшего в 1980 г., этот эпиграф исчез – позволю предположить, по цензурным соображениям.
По мнению исследователя творчества Шанты Шандора Фекете, «неведомыми» в романе остаются не только боги, но и люди — участники вечернего застолья сами не знают, на что способны, обсуждая этические построения в притче и осуждая выбор раба, и остаются «неразгаданными» друг для друга (в финале приятели считают Дюрицу трусом, однако, автор отчетливо дает читателю понять, что это не так). С разных позиций можно трактовать и уже несколько раз упомянутую центральную притчу, в которой сформулирован главный вопрос романа о выборе между судьбой лишенного совести и неуязвимого Томоцеускакатити (имя отсылает нас к историям о кровожадных ацтекских вождях) и страдальца Дюдю (у раба имя нарочито «слабое»). Сама по себе эта притча может показаться странной и даже логически ущербной, ведь любой вариант ответа ощущается как этически неприемлемый, а предложенные ролевые модели выглядят уж слишком неправдоподобными. Предлагая собеседникам модель мира, где все считают происходящие ужасы естественными и не задумываются о правильности своих поступков, Дюрица намекает на то, что его товарищи тоже смирились с происходящим, хотя, в отличие от персонажей притчи, и осуждают зверства фашистов и нилашистов. Сам же часовщик уже тайно восстает против сложившегося порядка (прячет еврейских детей, нарушая неправедный закон).
Fekete Sándor. Az ötödik pecsét, mint etikai irányregény / Világosság, 2003, 5−6. P. 231−236.
Неоднозначность, невозможность подогнать слишком сложную реальность под умозрительные построения — еще одна из ключевых идей романа. Умозрительно герои не готовы выбрать судьбу раба и дают этически «неправильный ответ», когда же дело принимает серьезный оборот, и выбор приходится делать по-настоящему, Кирай, Ковач и Бела ведут себя достойно. Анонимный автор богословского анализа фильма «Пятая печать» из Оренбургской семинарии сравнивает их с благоразумным разбойником, распятым по правую руку от Христа, ведь они до ареста «проводили свою жизнь в угоду себе и своим страстям». Сделавший же, вроде бы, правильный выбор Кесеи обрекает своим доносом остальных на погибель. То есть, конкретная ситуация и непосредственные поступки дают, по мнению Ференца Шанты, куда более точное представление об истинной сути человека, нежели декларируемые им на словах убеждения. Получается, что история про остров Люч-Люч — в некотором смысле «антипритча» (Фекете), и автор, скорее, против конструирования этических абстракций при помощи отвлеченных историй.
Постоянное обращение к собственной совести, стремление следовать ее осознанным и неосознанным указаниям — вот выбор, достойный современного человека, а не слепое следование теориям, пусть и самым идеальным. Последнее часто приводит к фанатизму, который так ненавидел Шанта — об этом он говорит и в приведенном ниже фрагменте интервью. Фанатиком идеи, не способным на нравственное суждение оказывается самый «неприятный» герой романа — предатель Кесеи, чей внутренний монолог о пережитом страдании, которое, как ему кажется, уже возвысило его надо остальными и сделало героем, практически Сверхчеловеком, напрямую отсылает к текстам Ницше, в особенности к книге «Так говорил Заратустра». Достаточно сравнить слова Кесеи:
“
Боже! Как я люблю людей… Это ведь из-за страданий я стал таким, каким стал! Может быть, я потому и способен делать добро и так безгранично любить, что очень близко знаю страдание! Кто много страдал, для того нет ничего выше любви к человеку. Ему ведомы его ценность и величие! Кто много страдает, кто за свою жизнь не раз ходил рядом со смертью, тот знает — ничто не спасает от зла и греха так, как страдание.
со словами Заратустры:
“
Все больше все лучшие из рода вашего должны гибнуть, — ибо вам должно становиться все хуже и жестче. Ибо только этим путем — только этим путем вырастает человек до той высоты, где молния порождает и убивает его: достаточно высоко для молнии! […] По-моему, вы еще недостаточно страдаете! Ибо вы страдаете собой, вы еще не страдали человеком. Вы солгали бы, если бы сказали иначе! Никто из вас не страдает тем, чем страдал я.
Упоение собственным страданием, глубокое презрение к окружающим делают Кесеи легкой «добычей» для фашистской идеологии. Ей же следуют и изображенные в романе нилашисты, только у них она становится практическим инструментом воплощения в реальность тех ужасов, что описывает в своей притче Дюрица. В этой точке историческое смыкается у Шанты с литературным. Человек в штатском, опьяненный властью, воздействует на людей методами, которые внимательному читателю напомнят действия властей в романе Оруэлла «1984», а его поучения, обращенные к менее опытному палачу-блондину почти буквально повторяют слова О’Брайена, когда тот объясняет Уинстону принципы действия партии в отношении людей:
“
Бунтовать, протестовать, возражать, вообще быть против… На это способен лишь тот, кто уважает себя! Я бы сказал — тот, кто уверен в себе самом! Или так: кто может положиться на себя! Что отсюда следует? Выпустить людей, которые нас ненавидят, боятся да еще и уважают себя? Могут в случае чего на себя рассчитывать? Вы допустили бы такую ошибку? Пока у них остается хотя бы намек на чувство собственного достоинства, пока теплится хоть искорка самоуважения — одного страха, одной боязни мало. […] Нужно исходить из того, что человек ужасно любит свою жалкую жизнь. Если он на многое способен ради богатства, то на что он пойдет ради спасения жизни?! Человек слабое и, собственно говоря, гнусное существо! Жалкое отродье!
“
Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими? […] Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. […] Мы били вас, Уинстон. Мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас пинали, пороли, оскорбляли, вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали все и вся.
Антиутопия из притчи Шанты и романа Оруэлла в исторической реальности конечна — мы знаем, что власть нилашистов скоро закончится, но это отнюдь не делает происходящее менее пугающим, ведь перед нами люди, слишком похожие на, увы, знакомых нам сегодня уже не только по кинохронике, мемуарам, работам историков и художественным произведениям персонажей. В отличие от придуманных тиранов, реальные палачи не только отрезают языки и фигурально карают за мыслепреступления, они физически уничтожают людей. Пугает и то, что «человек в штатском» и «блондин» — оба представители интеллигенции. Автор, тем самым, демонстрирует опасность ухода от простейших, продиктованных все той же совестью норм морали и оправдания насилия путем сложных теоретических построений. Отринув свое человеческое начало, нилашисты вышли за пределы привычных категорий добра и зла и не считают себя ответственными за свои действия. Как и для героев Оруэлла, единственной целью для них является власть («Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. […] Цель пытки — пытка. Цель власти — власть.») То есть, говоря словами Сартра, для них «Зло становится существенным, а Добро переходит в разряд несущественного».* Вслед за Сартром (чьи философские воззрения он во многом разделял) Шанта считает человека ответственным за свои поступки: обладая свободой выбора, человек, тем не менее, обязан осознавать личную ответственность за свои решения, а отсутствие объективной морали обязывает постоянно сверяться с собственной совестью и с порядком, актуальным для всего человечества. Как бы ни стремились лишить нас свободы выбора те, кто уже сделал выбор в пользу зла, мы теряем ее лишь тогда, когда сами от нее отказываемся, то есть тоже переходим на сторону зла. В системе координат Белы, Кирая и Ковача такое поведение — грех, именно поэтому они отказываются ударить замученного литейщика. В данном случае они отвечают только за себя. Дюрица же взял на себя ответственность за других людей (еврейских детей) и потому подчиняется требованию нилашистов и бьет узника. Из двух зол ему приходится выбрать меньшее, вариант с менее губительными последствиями. Его решение нельзя назвать идеальным, оно обрекает Дюрицу на страдания — из застенка он выходит с непроизвольно раскинутыми в стороны руками, словно и сам был распят. Сцена возвращения часовщика домой поразительно напоминает путь Раскольникова к месту покаяния на Сенной площади в «Преступлении и наказании» Достоевского — в обеих случаях герой, осознающий совершенный им грех, кажется окружающим пьяным, а внезапная искра «нового, полного ощущения» заставляет обоих упасть на колени и разрыдаться.
* Сартр Жан Поль. Заметки по этике /Этическая мысль. Вып. 9. М., Институт философии РАН, 2009. С. 168.
Масштаб поставленных вопросов, соединение европейского литературного и философского контекста эпохи с недавним историческим опытом своей страны и глубокой психологической достоверностью героев превращают текст Шанты не просто в этический роман поколения «для своих», но и в универсальное, на наш взгляд, произведение, способное и сегодня помочь человеку осознать сложность выбора и сделать его, руководствуясь возможно еще и «неведомым» богом своей совести.
После «Пятой печати» автор «руководства по этике» (так назвал роман в книге о творчестве Ференца Шанты венгерский литературовед Геза Ваши*) написал еще два, совершенно иных по стилистике и форме романа: «Двадцать часов» (1964) и «Предатель» (1966). В первом — псевдорепортажной хронике — главный герой-журналист проводит 20 часов в одной деревне, расследуя убийство, совершенное в 1956 г., и, параллельно, знакомясь с жизнью этой деревни, где в послевоенные годы политические и экономические катаклизмы превратили соседей в заклятых врагов. В этом романе Шанта соединяет приемы венгерской социографии (продуктивного и развитого направления венгерской литературы ХХ-ХХI со своими традициями и особенностями) с многоголосием народного романа и взглядом внешнего наблюдателя. Свое исследование истории венгерского общества и философии истории Шанта продолжает и в последнем своем романе «Предатель"**, где реконструирует события далекого прошлого (в том числе, времен восстания гуситов), задаваясь вопросом о смысле хода истории вообще: ведет ли оно человека вперед. В этом романе писатель вновь обращается к притче, демонстрируя четыре «вечные» модели поведения человека в ситуации поворотного момента истории.
*Vásy Géza. Sánta Ferenc. PIM, Budapest, 2012.
**На русский язык этот роман Шанты переведен не был.
**На русский язык этот роман Шанты переведен не был.
С конца 1960-х Шанта больше не пишет романов, продолжает заниматься малой прозой и эссеистикой — в 1970 и 1980 гг. выходят два сборника рассказов — «Бог на телеге» и «Маленькие и большие»; а также пишет сценарии и пьесы для постановок по своим романам. «Пятая печать» и «Двадцать часов» были очень удачно экранизированы режиссером Золтаном Фабри в 1976 и 1965 гг. Именно по фильму Фабри роман Шанты и стал знаком советскому, а впоследствии — российскому зрителю.
На вопрос, почему после выхода трех столь заметных романов писатель почти перестал писать Шанта в 1986 г. отвечал: «Мое молчание — это не противостояние ни себе, ни окружающему меня миру… Это не молчание, а тишина. Молчание предполагает оппозицию, а во мне оппозиции — по крайней мере к окружающему миру — не было. Но были вещи, на которые я ни сам себе, ни, как следствие, читателю, не мог бы дать ответ».*
*Sánta Ferenc: A szabadság küszöbén. Bp., 1993. P. 66.
На русском языке романы и рассказы Ференца Шанты впервые появились в 1980 г. — именно тогда в московском издательстве «Прогресс» вышел сборник его произведений, составленный Еленой Малыхиной. В него вошел и роман «Пятая печать» в переводе Юрия Мартемьянова. Спустя семь лет в международной серии «Новый мир» издательства «Художественная литература» был опубликован русский перевод романа «Двадцать часов».
В 1993 г. в сборнике «На пороге свободы» Ференц Шанта опубликовал написанные в разные годы статьи, эссе и свои интервью, в том числе и интервью, данное им еженедельной литературной газете «Елет еш иродалом» (Élet és Irodalom) в мае 1967 г., в связи с выходом романа «20 часов», где рассказывает о своих принципах, о целях творчества и, в частности, объясняет свою позицию в том числе и в «Пятой печати». Хотелось бы в заключение привести несколько фрагментов этой беседы. Обращает на себя внимание некоторое смятение интервьюера, Эдит Эрки, вызванное слишком уж высокой планкой, выставленной писателем. Возникает ощущение, будто журналистке все время хочется вывести Шанту на какую-то «идеологически верную» тропу, но тот сопротивляется. Совершенно в духе романов Ференца Шанты его визави, как можно выяснить, если копнуть чуть глубже, была не только сотрудником ряда литературных изданий и позднее — активной исследовательницей локальной истории, но и с 1957 г. сотрудничала со спецслужбами МВД и в качестве осведомителя, а в 1958 г. именно на основании ее доносов (работала Эрки под псевдонимом Юдит Хамваш) был обвинен в организации «контрреволюционного заговора» и на 10 лет отправлен в тюрьму крупнейший венгерский психолог, исследователь процессов группового контроля и его влияния на индивидуальную волю, Ференц Мереи (1909−1986).
Приверженность принципам
Ваши герои часто пытаются понять, что служит основой для осознанной жизни: как бы вы сформулировали собственное мировоззрение?
Ответ — в моих книгах и текстах, об этом же вам расскажут и ответы, которые я дам на ваши вопросы.
В своих заявления вы часто отрицали вовлеченность писателя, приверженность его определенным взглядам, а в текстах, наоборот, отстаиваете свою позицию. В чем причина такой двойственности?
Никакого противоречия здесь нет. Я сталкиваю своих героев с извечными человеческими нормами, с нормами гуманистического мышления, а среди них есть приверженцы самых разных взглядов. Я их призывал к ответу или оправдывал, губил или спасал, сочувствовал им или возмущался их поступкам в той степени, в какой они выдерживали или не выдерживали это испытание.
Вы говорите о вечных человеческих нормах. Это меня смущает. И в «Пятой печати» тоже. Вы еще ни разу так и не признались, что на самом деле хотели сказать этой книгой.
Я перебрал в памяти критические статьи, выходившие в связи с этим романом, но мне попалась одна-единственная рецензия, где чувствуется замешательство. Остальные критики в этой связи написали, что рецензент просто не понял книгу.
А сказать я хотел, что человека — в его нравственной чистоте, достоинстве, благородстве — невозможно победить. Силы зла, бесчестия, отсутствия совести могут до какого-то момента одерживать верх, особенно, если они способны организоваться, но окончательно уничтожить человека они не в состоянии. Потребность в добре, справедливости, чести, благородстве настолько глубоко живет в нас, присутствует до такой степени постоянно, что не может быть такой ситуации, не может быть такой дилеммы, в которой эта потребность не была бы способна единственно верным способом определять, как мы должны себя вести. Совесть, если хотите, это сократический голос, который молчит, если мы творим добро, но немедленно дает о себе знать, возмущается, если мы готовимся совершить нечто дурное. Потому-то подлец всегда знает, что он подлец, и потому мы не можем избавить его от его же собственной вины.
Как следствие, все это также означает, что следование какому-то философскому, этическому, мировоззренческому порядку — не обязательное условие для того, чтобы мы были в состоянии сориентироваться и вынести верное суждение, правильно поступить. Все законы уже есть внутри нас — и законы добра, и законы зла, нам следует лишь обращать на них внимание.
Персонажи из «Пятой печати» не привязывали себя ни к какому учению, школе. Почему они оказались способны остаться людьми в бесчеловечном мире, правильно оценивать ситуацию и принимать верные решение, почему смогли возвыситься до героев? Несмотря даже на собственные практические интересы, практические взгляды, жизненный инстинкт, страх и мелкие грешки? И отчего по всему миру миллионы и миллионы необразованных, невежественных людей безо всякого представления об изощренных системах способны сохранять честь, достоинство, принимать правильные решения? Задумайтесь над этим хорошенько. Самые низменные грехи этого века мы должны относить не на их счет, и в любом веке все мерзости — не на их совести.
Лучшим из них был тот, умирающий, к которому их [героев романа] привели. Но они оказались способны смертью своей воздать должное этому человеку — которого, если бы история пожелала, чтобы я дольше о нем рассказывал, я бы сделал похожим на Йошку из «Двадцати часов». (Высшая школа фанатизма — продукт нилашистов и фотографа). События последней главы вновь повествуют о том, что, кроме внутренних законов, что мы носим в себе, нет рецепта относительно того, как нам себя вести, когда мы оказываемся перед дилеммой добра и зла, бесчестия и чести. Пусть каждый следит за своей совестью — это она единственно определяет наше правильное поведение. Все ответы — у нас внутри. И потому неправда, будто наша жизнь проходит в постоянных раздумьях над выбором, речь о том, смеем ли мы совершить то, о чем без промедления знаем, как о единственно достойном и благородном варианте. И это две очень разные вещи.
Кто-то написал про эту книгу, мол, пессимистичная. Вера в то, что человек хорош, честен, в то, что у нас есть достоинство и победить это невозможно — где ж тут пессимизм?
А сказать я хотел, что человека — в его нравственной чистоте, достоинстве, благородстве — невозможно победить. Силы зла, бесчестия, отсутствия совести могут до какого-то момента одерживать верх, особенно, если они способны организоваться, но окончательно уничтожить человека они не в состоянии. Потребность в добре, справедливости, чести, благородстве настолько глубоко живет в нас, присутствует до такой степени постоянно, что не может быть такой ситуации, не может быть такой дилеммы, в которой эта потребность не была бы способна единственно верным способом определять, как мы должны себя вести. Совесть, если хотите, это сократический голос, который молчит, если мы творим добро, но немедленно дает о себе знать, возмущается, если мы готовимся совершить нечто дурное. Потому-то подлец всегда знает, что он подлец, и потому мы не можем избавить его от его же собственной вины.
Как следствие, все это также означает, что следование какому-то философскому, этическому, мировоззренческому порядку — не обязательное условие для того, чтобы мы были в состоянии сориентироваться и вынести верное суждение, правильно поступить. Все законы уже есть внутри нас — и законы добра, и законы зла, нам следует лишь обращать на них внимание.
Персонажи из «Пятой печати» не привязывали себя ни к какому учению, школе. Почему они оказались способны остаться людьми в бесчеловечном мире, правильно оценивать ситуацию и принимать верные решение, почему смогли возвыситься до героев? Несмотря даже на собственные практические интересы, практические взгляды, жизненный инстинкт, страх и мелкие грешки? И отчего по всему миру миллионы и миллионы необразованных, невежественных людей безо всякого представления об изощренных системах способны сохранять честь, достоинство, принимать правильные решения? Задумайтесь над этим хорошенько. Самые низменные грехи этого века мы должны относить не на их счет, и в любом веке все мерзости — не на их совести.
Лучшим из них был тот, умирающий, к которому их [героев романа] привели. Но они оказались способны смертью своей воздать должное этому человеку — которого, если бы история пожелала, чтобы я дольше о нем рассказывал, я бы сделал похожим на Йошку из «Двадцати часов». (Высшая школа фанатизма — продукт нилашистов и фотографа). События последней главы вновь повествуют о том, что, кроме внутренних законов, что мы носим в себе, нет рецепта относительно того, как нам себя вести, когда мы оказываемся перед дилеммой добра и зла, бесчестия и чести. Пусть каждый следит за своей совестью — это она единственно определяет наше правильное поведение. Все ответы — у нас внутри. И потому неправда, будто наша жизнь проходит в постоянных раздумьях над выбором, речь о том, смеем ли мы совершить то, о чем без промедления знаем, как о единственно достойном и благородном варианте. И это две очень разные вещи.
Кто-то написал про эту книгу, мол, пессимистичная. Вера в то, что человек хорош, честен, в то, что у нас есть достоинство и победить это невозможно — где ж тут пессимизм?
