Агнеш Хеллер
Где мы чувствуем себя дома?
Из сборника эссе «Эстетика и модерность».
Перевод с английского Оксаны Якименко
Перевод с английского Оксаны Якименко
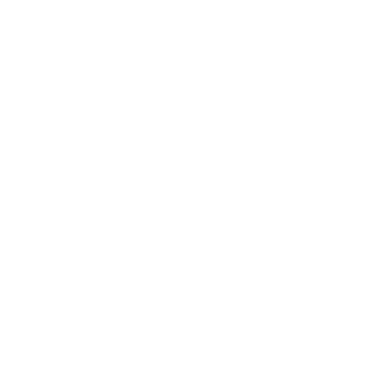
Агнеш Хеллер
(1929 — 2019)
Уже много лет назад Агнеш Хеллер рекомендовала мне книгу своих эссе. Договориться о ее публикации в свое время не получилось — правообладатели хотели слишком много денег, даже для публикации в журнале требовали столько, сколько часто стоит целая книга. Дико жалею (книга прекрасная). Одно эссе меня там сразу зацепило, и я его практически «в один присест» перевела. Сегодня оно мне кажется очень важным — потому что пока коты не со мной.
Оксана Якименко
Лет тридцать назад я познакомилась с владельцем маленькой траттории на римской площади Кампо деи Фьори, мужчиной средних лет. После приятной беседы я попросила его показать мне самый короткий путь до Порта Пиа. «Простите, но я вам помочь не могу», — ответил он. «Если честно, я ни разу в жизни не покидал Кампо деи Фьори». Лет пятнадцать спустя, на борту аэробуса по дороге в Австралию я обсуждала текущие мировые события с соседкой — примерной ровесницей того римлянина. Выяснилось, что она работает на международную торговую компанию, говорит на пяти языках и владеет тремя квартирами в трех разных местах. Вспомнив признание хозяина траттории, я задала ей очевидный вопрос: «Где вы чувствуете себя дома?» Даму вопрос огорошил. После некоторой паузы она ответила: «Наверное, там, где живет моя кошка».
Жизнь этих двоих, похоже, разделяли целые миры. Для хозяина траттории Земля имела центр, он назывался Кампо деи Фьори, место, где он родился и собирался умереть. Он был искренне привержен географической моногамии, обручившей его с традицией. Верность этого человека уходила корнями в далекое прошлое, прошлое римской площади, и простиралась за пределы его личного будущего в будущее Кампо деи Фьори. Для моей второй собеседницы Земля не имела центра; эта женщина была географической распутницей, лишенной страстных привязанностей. Ей было все равно, где находиться. Мой вопрос озадачил ее, поскольку нагруженная смыслами концепция «дома», судя по всему, ничего для нее не значила.
Мои предположении подтвердил ее намеренно-невольный ироничный ответ. Если есть что-то, что мы называем домом, кошка живет у нас дома. Поэтому, когда моя собеседница ответила, поменяв местами знаки, «Мой дом там, где живет моя кошка», она деконструировала концепцию «дома». Ее географическая неразборчивость символизировала собой нечто чужое и жутковатое (unheimlich), а именно, отказ от древнейшей из присущих человеку традиций — традиции отдавать предпочтение одному или конкретному месту перед всеми остальными.
Таким особым местом могли быть отцовский шатер, родная деревня, свободный город, этнический анклав, национальное государство, территория священной гробницы — и многое-многое другое. Человек либо никогда не покидал такое место (как мой приятель с Кампо деи Фьори), либо возвращался к нему, как герои от Одиссея до Пера Гюнта. А если особое место подвергалось разрушению в результате войны или природной катастрофы, или же нужда или любопытство заставляли группу людей покинуть такое место в поисках лучшей доли, сообщество, как правило, переносило дух древнего дома с собой на новое место, как это произошло со старыми колонистами на Сицилии или с колонистами нового времени в Нью-Амстердаме, Нью-Орлеане, Нью-Хейвене, и постоянно происходит с евреями по всей Европе.
«Дом», похоже, одна из немногих констант человеческого существования: получается, что моя соседка по аэробусу выглядит как некий культурный монстр. Но она никакой не монстр, а просто очень одинокий человек, тупиковый продукт (хотя не только тупиковый, и далеко не конечный продукт) двух столетий новейшей истории.
Как личность географически моногамная, наш ресторатор с Кампо деи Фьори, мог бы обозначить центральную точку своей жизни: локус, географическую координату, место на земном шаре. Дама из аэробуса оказалась географически распутной. Когда я спросила ее о доме, она указала не на место, не на мужа или ребенка, но на кошку. Почему так важно подчеркнуть «моя кошка»? Кошка не похожа на собаку. Кошка не хранит верность хозяйке, не сопровождает ее в путешествиях. При этом, кошка не подвержена географическому разврату, она создает дом. Женщина из аэробуса указала на кошку как на существо, создающее домашний уют (homemaker). Фраза «Мой дом там, где живет моя кошка» — не просто деконструкция концепции «дом», но, одновременно, и проявление глубокой тоски: у кошки есть дом; у живого создания есть дом; у меня нет дома; я — монстр. Но эта женщина все-таки не монстр, она — парадоксальное явление.
Мы приходим к предварительному заключению, что географически распутная личность не может определить свой жизненный центр на Земле, потому что не имеет его. Вывод этот, возможно, чересчур скоропалителен. Мы уже вскользь упомянули группы людей, которые мигрировали из мест своего рождения в далекие страны по принуждению или, возможно, в поисках лучшей доли, унося с собой свой дом. Можно утверждать, что наша дама делает нечто подобное — просто она постоянно мигрирует между различными точками и все время перемещается с места на место.
Она делает это в одиночку, не как член сообщества, хотя так поступают многие люди. Но что за культурный багаж возит она за собой? Ответ прост: никакого. Ей это не нужно. Культура, частью которой она является, это не культура конкретного места, но культура времени. Речь идет о культуре абсолютного настоящего.
Попробуем присоединиться к нашей даме в ее постоянных переездах из Сингапура в Гонконг, Лондон, Стокгольм, Нью-Хэмпшир, Токио, Прагу и т. д. Она живет в одних и тех же гостиницах — Хилтон, ест на обед один и тот же сэндвич с тунцом, или, если захочет, заказывает китайские блюда в Париже и французские — в Гонконге; пользуется одинаковыми факсами, телефонами и компьютерами, смотрит те же фильмы, что и все, и обсуждает универсальные проблемы с людьми одного типа. В определенном смысле, у нее есть некий опыт «жизни дома». Так, например, она знает, где находится выключатель, заранее знает, что будет в меню, может считывать жесты и аллюзии, понимает других людей без дополнительных разъяснений. В абсолютно функциональных отношениях ничто не кажется чужим и опасным; они не похожи на темные комнаты, незнакомые земли или тропические леса. Они не чужеродны. Даже иностранные университеты не кажутся чужими. После лекции в Сингапуре, Токио, Париже и Манчестере вам зададут одни и те же вопросы, но в бизнес-отелях, торговых центрах и университетах нет домашних кошек. Эти места не являются чужими, но и домом они не становятся.
Моя попутчица, на самом деле, не путешествовала. Она оставалась неподвижной. Нельзя сказать, что она стояла на одном месте, ведь она перемещалась. При этом, она не двигалась, словно бы все эти далекие и не такие далекие точки стремились к ней, а не она к ним. Эта женщина носила с собой не конкретную культуру конкретного места (или мест), но конкретное время, присутствующее во всех этих местах, всегда пребывая в настоящем. Она оставалась собой в той мере, в какой ее движение совпадало с настоящими временами, свойственными тем местам, где она когда-либо бывала.
Позволю себе привести пример с университетом. Двадцать лет назад после чтения одной и той же лекции в Токио, Мельбурне, Кейптауне, Париже, Дели или Гонолулу, можно было с уверенностью ожидать, что во всех этих местах студенты зададут одни и те же или похожие вопросы. Сегодня студенты будут задавать совсем не такие вопросы, как двадцать лет назад, и все же во всех университетах вопросы будут идентичны или очень похожи. Можем ли мы утверждать, будто студенты, задававшие свои вопросы двадцать лет назад, жили в ином мире, нежели те, кто спрашивает сегодня? Можно ли предположить, что наши современники, которых я для простоты назову «постсовременниками» обретают дом во времени, а не в пространстве?
Сознание случайности
Современная философия все чаще предпочитает время пространству. Возвышенные рассуждения о пространстве с их великолепными геометрическими метафорами уступили дорогу столь же возвышенным рассуждениям о времени. Время и темпоральность были представлены общественному сознанию (common mind) как изящную и глубокие темы, в сравнении с прозаической темой пространственности. Опыт современного человека формировался в духе Гегеля, Маркса, Флобера, Ницше, Фрейда, Бергсона и Пруста. Сдвиг в «духовной ситуации времени» (Geistige Situation der Zeit), как это формулирует Ясперс, ставит под угрозу опыт привычного и делает наш мир чужим и зловещим (unheimlich) местом. С тех пор, как предостережение Ясперса о тоталитарной угрозе было изложено на бумаге, в сознании современного человека произошло несколько сдвигов в восприятии времени и пространства, и все эти сдвиги были глубоко переплетены с меняющимся восприятием «дома» у последующих поколений.
При этом, все сдвиги сопровождают и демонстрируют непременное ощущение случайности. Сознание случайности, конечно, ничего нового из себя не представляет; оно возникает вместе с первыми проявлениями нового социального устройства, которое мы условились называть «современностью» (modernity). Чем дальше распространяется современное социальное устройство, чем большее количество культурных сфер оно охватывает, тем шире и всеохватнее становится сознание случайности. Условность своего изначального существования ощущают теперь не только представители так называемой «западной культуры», но и миллионы других людей.
Исходное, традиционно европейское осознание случайности ударило по нам как землетрясение. С некоторыми упрощениями, мы можем указать на два основных потрясения. Сначала пришло осознание космической случайности, приведшее к утрате метафизического дома, или, по крайней мере, наличия этого дома как данности. Тогда же ушла и вера в предопределенность цели нашей земной жизни.
Таким образом, наше предназначение и судьба неизвестны, и нам придется либо найти свой пункт назначения, либо создать идеальный образ, прежде чем мы начнем его воплощать. Ницше говорил, что в новейшее время вопросительный знак заменил Бога. Я бы добавила, что вопросительный знак заменил и воображаемое пространство, где наша жизнь, как предполагалось, должна была осуществиться, самопровозглашенную точку нашего идеала. Термины «пространство» или «точка» могут указывать здесь на место или уровень в общественной иерархии, где человек находит намеченную для себя задачу или судьбу. Эти слова могут также обозначать географическое пространство, то есть, город, страну, территорию реализации конкретной участи.
Современные мужчины и женщины начали ощущать условность своей социальной позиции как вопросительный знак, который теперь заменяет фиксированную пространственность (страну, город, социальное положение) назначенной им судьбы. Будущее открыто как неопределенное пространство, прежде всего чуждое и зловещее пространство, темная ниша, которая может скрывать богатства Востока и, одновременно, таить в себе непредсказуемый рок. Если человек принимает назначенное ему место на земле, фиксированные рамки всех его выборов, какими бы — легкими или тяжелыми — они не были, определены. Современные люди воспринимают подобные ограничения как несвободу. Назначенное место несвободно, самоназначенное место — свободно. Свобода, в этом смысле, означает, что человек принимает случайность как бесконечную череду возможностей. Выбор самоназначенного места в ущерб предопределенному извне уже привносит фактор времени как один из ключевых детерминантов опыта случайности. Мы можем ухватить время, время, которое понесет нас на своих волнах к тому месту, которое мы сами себе назначили. Так рождается самосознание историчности.
На протяжении последних двухсот лет современный общественный уклад с возрастающей скоростью успел преодолеть множество линий сопротивления. Первый опыт новейшего времени, а именно, эксплуатация временного ритма, уступил место общему сознанию историчности. «Время» — таинственная движущая сила, независимо от того, как к нему относились — с восторгом, или с ненавистью, — заняло центральное место в сети нашего воображения. Постепенно возникающая тенденция отдавать предпочтение времени в ущерб пространству также поменяла направление фантазии. В эпоху, предшествующую современной, фантазия возвышает человека над его социальным положением в реальности: рабы мечтают о том, чтобы родиться свободными, а буржуа — о том, как бы они жили, будь они князьями или аристократами. У людей современности — другие мечты: они мечтали бы родиться в другом времени — в прошлом или в будущем.
Напряжение между ощущением себя дома в пространстве и во времени достигает кульминации в девятнадцатом веке. Именно тогда вопрос: «Где находится предназначенный нам дом?» встает с особой остротой. Один человек ответит: предназначенный мне дом — это место, где я родился; я продолжаю дело отца, чем бы он ни занимался. Это знакомая позиция нашего ресторатора с Кампо деи Фьори. Другой скажет: мой дом предопределен моей личной судьбой; я следую своей судьбе на крыльях времени и, реализуя собственные способности, найду предназначенный мне дом. Ницше бы сказал: Amor fati! Где Наполеон чувствовал себя дома: на Корсике или в Париже, в загородном особняке или в императорском дворце? В реальности, был, конечно, только один Наполеон, но в фантазиях их были миллионы.
Роман в девятнадцатом веке, до появления Флобера, являет нам кратковременную гармонию в понимании дома как пространственного и временного феномена, хотя эта гармония и не лишена напряжения. Во многих бальзаковских романах, например, присутствует почти неизбежное разграничение: тот, кто бросается в поток времени, теряет свою родину; тот же, кто сохраняет верность дому, теряет связь со временем. Конфликт отцов и детей также содержит в себе конфликт восприятия дома: сын чувствует себя дома с друзьями-студентами, отец же становится чужим.
Большинство признаков дома как пространственного явления могут быть перенесены на его временную сущность, хотя качество домашнести может меняться. Одна из самых решающих характеристик дома — ощущение того, что все вокруг знакомо, однако к дому во времени это, в полной мере, не относится. Прежде всего, ощущение, что мы находимся дома, — это не просто чувство, но эмоциональная предрасположенность, эмоциональный аппарат, состоящий из множества отдельных видов эмоций, таких как радость, печаль, ностальгия/тоска, потребность в близости, утешение, гордость и отсутствие чужих. Подобная эмоциональная предрасположенность, как все эмоциональные аппараты, включает в себя массу когнитивных элементов, то есть, оценочных суждений. Так, например, характер того или иного чувства или эмоционального переживания, вызванного эмоциональной предрасположенностью (такое, например, как чувство, что ты дома), может также зависеть от характера когнитивных/оценочных элементов, свойственных этой предрасположенности (т.е. это чувство может быть интенсивным, сильным или подавленным).
Что может быть знакомым? Звуки (треск сверчка, шум ветра, плеск ручья, звуки проезжающего автобуса, голоса ссорящихся соседей), цвет (неба, растений, обоев), свет (звезд, городских огней), запахи (каждый город, как вы прекрасно знаете, пахнет по-своему), формы (дома, сада, церкви, изгибов улиц). Эти и другие признаки знакомого отличают одно место от другого. Все перечисленное, в высшей степени, относится к чувственным переживаниям. То есть, если дом воспринимается в пространстве, чувственные впечатления нагружены смыслами, полученными из когнитивных/оценочных элементов эмоциональной предрасположенности. Такой тип восприятия дома как пространственного явления не может быть перенесен на восприятие его как временное явление. Вторая мировая война, к примеру, — часть прошлого по отношению к настоящему для моего поколения. Звуки бомб и сирен, запах горящих домов — составляющие нашего общего чувственного опыта. У этих и им подобных чувственных переживаний нет местной окраски, и они жестко привязаны к конкретному времени. Помимо всего прочего, это, как правило пугающий или неприятный опыт. Бывают и приятные чувственные переживания временного характера, но они не являются первичными — в том смысле, как могут быть первичными или стихийными пространственные переживания; как правило, временной опыт включает в себя нарративный элемент (первый день мира, например).
Второй элемент знакомого — это язык, родной язык, местное наречие, детские песенки, типичные фразы, жесты, знаки, выражения лиц, мельчайшие традиции. Люди могут беседовать, не снабжая сказанное фоновой информацией. Комментарии не нужны: нескольких слово хватает чтобы сказать много. А еще можно молчать. Там, где молчание не несет в себе угрозы, мы, безусловно, чувствуем себя дома. На первом уровне знакомый характер языка невозможно полностью спроецировать на ощущение дома как временного явления. Однако чем дальше мы отходим от чувственного переживания к когнитивному, тем более становится возможным подобный переход.
Со своей попутчицей по аэробусу я обсуждала вопросы текущей (на тот момент) политики. Эта женщина могла обсуждать текущую политику с кем угодно. Никакие комментарии или фоновая информация для этого не были нужны. Если я, в свою очередь, завтра упомяну поворот Хайдеггера в любом университете мира, мне тоже не надо будет давать фоновую информацию. Отсюда можно сделать предварительный о том, что дом, данный в любом универсальном дискурсе — функциональном или трансфункциональном — находится во времени, а не в точке пространства. Человек становится частью такого дома, отказываясь от всех чувственных переживаний, которые формируют наш дом в пространстве. Во избежание недопонимания, я имею здесь в виду не только контрфактуальный идеал универсального дискурса Хабермаса, но все эмпирические версии универсальной коммуникации. Когда я говорю об универсальной коммуникации, в данном контексте, я не придаю особой ценности (положительной или отрицательной) понятию «универсальности». Я называю универсальной любую коммуникацию, участники которой отходят в понимании концепции «дом» от чувственного пространственного восприятия; такая коммуникация имеет место в свободном, нейтральном или абстрактном пространстве, не являющемся пространством конкретного дома (в гостинице или самолете, например), но обладающем временным домом — абсолютным настоящим.
Если все так, почему я назвала женщину из аэробуса живым «парадоксом», хотя и не монстром? Из моего фрагментированного рассказа следует обратное. Если мы предположим, что пространственное восприятие дома уступило место временному, ничего парадоксального в этой женщине нет.
Она жила в абстрактном месте: нигде и везде, и как правило, ее чувственные переживания тоже были абстрактными. Женщина эта была одинока — ни мужа, ни детей. Периодически у нее мог быть возлюбленный в той или иной гостинице или квартире. Но для ощущения дома этого было не достаточно; дом создавала кошка. В качестве компенсации эта дама обладала сильным временным ощущением дома и могла делиться своими мыслями практически с кем угодно. Она говорила на пяти языках, хотя, возможно, и не знала детских песенок и стишков. Но мы не должны забывать, что у нее не было детей, а если бы и были, в ее времени и нейтральном пространстве дети больше не рассказывают стишки. Жизнь моей попутчицы представляла собой парадокс, ибо она сама представила себя фразой «Мой дом там, где живет моя кошка». Она не сказала: «Мой дом — весь мир», или «Мой дом — это моя компания», или «Мой дом — нынешняя эпоха». Нет, она сказала: «Мой дом там, где живет моя кошка», где обитает живое существо, создающее ощущение дома. Животное создает дом для человека: деконструкция понятия «дом», тоска, да, но еще и то, что возвращает нас к прежней точке отсчета — обратно к кошке. Вместе они составляют парадокс: гордое существование в лишенном чувств мире абсолютного настоящего и стремление к теплу тела, стада, группы.
Попробую угадать, чем сейчас заняты эти двое: владелец ресторана на Кампо деи Фьори и моя соседка по аэробусу. В траттории теперь заправляет сын моего старого друга, но отец продолжает ему помогать, а в перерывах — сидит в ресторанчике и вступает в оживленные беседы с прохожими. Деловая женщина, за время, прошедшее с нашей встречи, рано ушла на пенсию и теперь углубилась в исследование своих семейных корней.
Она продолжает путешествовать, возвращается в маленькие румынские деревеньки (где говорят на языке, который она не понимает), роется в церковных архивах в поисках свидетельств о рождении и смерти, пытаясь найти что-либо, возможно, обрывок бумаги с именем прапрадеда, чтобы понять, откуда она родом.
До сих пор я стремилась упростить два репрезентативных типа восприятия дома: пространственный и временной, используя два простых идеальных примера. Надеюсь, мне удалось четко выделить три момента. Во-первых, существует тенденция смещения от пространственного восприятия дома к временному. Во-вторых, любой опыт, связанный с домом, включая консервативные жизненные формы, представляет собой более или менее удачные попытки справиться со случайностью; в результате — за исключением ряда удаленных мест — дом только как пространственный опыт уже невозможен. В-третьих, дом как временной опыт в чистом виде имеет ограничение: такое восприятие дома требует полного отказа от чувственных/эмоциональных переживаний, и, таким образом, оно вызывает противоположное (на первый взгляд) стремление — возвращение к миру телесного здоровья, биологического братства и обычного материального существования. К старому предостережению о том, будто цивилизация порождает варварство, следует относится с важной оговоркой: не каждое возвращение от временного ощущения дома к прежнему, знакомому миру пространственного обустройства дома является возвращение к варварству.
Абсолютный дух как дом
До сих пор я кратко остановилась на двух идеальных типах восприятия дома. Теперь же обращусь к третьему. Речь идет о топосе, о метафорическом месте, которое современные люди начали называть «высокой культурой»; мне больше нравится формулировка Гегеля, и я буду обозначать это место территорией абсолютного духа. Философия есть ностальгия, говорил Новалис. Когда временное восприятие дома теряет свою интенсивность, мужчины и женщины по-прежнему могут обрести дом «там, наверху», в высших сферах искусства, религии и философии. Когда я говорю «мужчины и женщины», я имею в виду жителей Европейского континента. Ибо этот третий дом, как я его называю, представляет собой, в высшей степени, европейское пространство. Оно никогда не было характерно для современной североамериканской реальности. Религия, к примеру, осталась одним из аспектов пространственного восприятия дома или перемещалась в качестве культурного багажа вместе с религиозным сообществом. Философия, в форме прагматизма, оставалась одним-единственным, пусть и блестящим субъектом политического пространства, а искусства — за исключением произведений, связанных с Европой — были глубоко укоренены в пространстве повседневности. Жителям Северной Америки никогда не приходило в голову искать свой истинный дом «там, наверху», в царстве абсолютного духа — даже если они практиковали качественную философию и искусства. Американским студентам легко кричать «Долой западную культуру!» — ведь то, от чего они хотят теперь избавиться, никогда не было их домом. Но осталось ли это царство домом для европейцев?
На заре современности дистанция между тремя домами (пространственным, временным и домом абсолютного духа) была несущественной. Любой, кто обитал в сферах абсолютного духа, обитал в настоящем или в прошлом и в будущем настоящего, но никоим образом не в абстрактном, чувственно пустом настоящем, поскольку эти люди все еще были привязаны к своему пространственному дому. Однако вскоре начались путешествия во времени и пространстве. Европейцы ударились в бесконечное копание в прошлом и отправились в бесконечные экспедиции в самые удаленные уголки мира. За одно столетие высокая европейская культура стала всеядной. А теперь уже и линия, отделяющая высокую культуру от низкой начинает рушиться. Нет ничего, что было бы за пределами вкуса, все заслуживает интерпретации. В европейской культуре стала доминировать герменевтика — независимо от того, используем мы это слово, или нет. Герменевтика выполняет функцию переливания культурной крови. Современные люди снабжают смыслами свои радости и страдания, то есть, поддерживают себя в состоянии культурной жизни, абсорбируя и ассимилируя духовную пищу, приготовленную в прошлом или настоящем, но в чуждых мирах.
Абсолютный дух, третий дом современного европейца, чувственно насыщен; более того, чувственная насыщенность составляет одну из самых привлекательных его сторон. Наше воспоминание о встрече с этим миров всегда содержит зерно ностальгии. Мы жаждем вернуться. При этом, современная ностальгия в чистом виде непохоже на желание вернуться в материнскую утробу; она жаждет испытать то же самое как иное. Точное повторение желания не приносит удовлетворения. Каждое повторение должно быть неповторимым. Это не просто поиск нового, но поиск нового в рамках знакомого. Желание — одна из мотиваций, все чаще направляющих современного человека в прошлое в поисках новизны.
Каждое новое толкование древнего текста удовлетворяет жажду неповторимого повторения. Ту же функцию выполняют так называемое «цитирование» в литературе, музыке и изящных искусствах. Это лишь верхушка айсберга, ибо желание соединить чувственный опыт новизны с ощущением знакомого характеризует — на банальном и примитивном уровне — всех поклонников массового туризма, которые кочуют с места на место, делая фотографии и покупая сувениры.
Абсолютный дух, третий дом современных европейцев, приносит не только чувственное, но и когнитивное удовлетворение. Вещи, отдельные произведения, населяющие пространство высокой культуры, нагружены смыслами. Плотность смысла является не онтологическим свойством и, в еще меньшей степени, онтологической константой и уж, тем более не предметом субъективной оценки. Плотность формируется из множественности интерпретаций в совокупности с пространственно-временным/экзистенциальным весом одной-единственной интерпретации. Если после тысячи интерпретаций некоего произведения тысяча первая интерпретация все еще может сказать нечто новое, значит, это произведение нагружено смыслом. Если же после трех интерпретаций мы абсолютно пресыщены произведением, значит, оно относительно бедно смыслами. Третий дом обитателей Европы населен произведениями, которые подвергались интерпретации многие сотни лет, без постоянного риска вызвать герменевтическое пресыщение. Однако количество произведений с высокой плотностью смыслов сегодня уже не достаточно велико, чтобы утолить жажду новизны и повторения. Ради удовлетворения спроса наша всеядная культура отбрасывает стандарты и ищет произведения, еще не исчерпавшие себя герменевтически, поскольку до сих пор их никто не рассматривал как объекты — носители смыслов, достойные интерпретации.
Современные герменевтические практики, включая деконструкцию, представляют собой постмодернистские случаи интерпретации. Тем не менее, каждая интерпретация, пусть даже самая спонтанная и наивная, совершает над текстом когнитивную /оценочную операцию. Не следует забывать, что третий дом — это современный дом, он обеспечивает метафизический комфорт, в первую очередь, для обитателей Европы. Этот дом не является частной территорией, присоединиться к нему может каждый, и, в этом смысле, он также космополитичен. Гарантия того, что влиться в этот дом может каждый, распространяется и на произведения, являющиеся его частью, и на посетителей, входящих в него с чувством ностальгии и в поисках смысла. Я могла бы перевернуть предыдущее предложение. Поскольку посетители решают — пусть и не без разумного основания — что будет допущено в числе произведений в третий дом. Изначально допускались лишь некоторые, сегодня — почти любые. В начале посетителей было немного, но потом их количество стало расти. Сегодня этот третий дом, бывший изначально европейским, стал объектом посещения для миллионов людей с самым разнообразным культурным багажом. Культурологи, от Ницше до Адорно, предсказывали крах третьего дома под грузом слишком большого количества мебели и посетителей. Их беспокойство было не лишено оснований.
Позволю себе вернуться к цепочке размышлений, которую оставила на полпути. Две элемента восприятия дома, а именно, усиленное и концентрированное присутствие чувственных впечатлений и интенсификация рефлексии и интерпретации, в равной степени важны в пределах нашего третьего, современного, по своей сути, дома.
Если единственным источником чувственного опыта становится чувство, что все вокруг узнаваемо, сам по себе опыт может остаться неотрефлексированным (как, например, когда мы слушаем народные песни своего детства). Но, в этом случае, мы не можем говорить об опыте «третьего дома», в чистом виде, ведь мы по-прежнему остаемся в первом доме (пространственном). С другой стороны, если ощущение узнаваемости, проявляется исключительно на рефлексивном уровне, мы не находимся в третьем доме, но остаемся во втором. Так, например, все в мире обсуждают Салмана Рушди, поэтому мы прочитываем несколько страниц из его скандального романа и становимся способны присоединиться к обсуждению; ощущение узнаваемости окружающего мира приходит с чтением ежедневной прессы и информированности о проблемах сегодняшнего дня. Чувственный опыт близок нулю, дискурсивное пространство включает всех, кто живет и рефлексирует в абсолютном настоящем.
И все-таки человек не может обитать в третьем доме европейской современности, не тренируя постоянно свои способности к суждению и рефлексии. Дом — это всегда место обитания человека, сеть человеческих связей, некое сообщество. Дома человек говорит без дополнительных сносок и комментариев, но может это делать, при условии, что беседует с тем, кто понимает. Если же он понимает другого с полуслова, посредством аллюзий и жестов, когнитивный фон уже присутствует как предварительное условие. Представим, то некто предложит десяти читателям десять разных философских трудов с условием, что каждый труд доступен лишь в одном экземпляре, а по прочтении каждую книгу надо будет сжечь.
Представим далее, что каждый из десяти читателей глубоко проникся полученной книгой, например, пережил серьезный философский опыт. Все они также поделятся пережитым, воскликнув «как прекрасно!», но не раскроют содержание прочитанных книг или изложенных в них доводов в собственной интерпретации. Вряд ли можно говорить о том, что эти десять человек живут в одном доме, хотя все они получили некий опыт на территории абсолютного духа.
Царство абсолютного духа может служить домом третьего типа, если мужчины и женщины разделяют хотя бы отдельные аспекты полученного опыта. Так, например, наследие Шекспира объединяет всех мужчин и женщин, которые когда-либо побывали в мире шекспировских произведений. Каждый поклонник Шекспира испытал свое, но все, кто побывал в его мире, понимают друг друга, благодаря аллюзиям, без комментариев; они могут вызывать цепочки ассоциаций в сознании других людей, всего лишь процитировав одну фразу; они могут признаться в любви, используя цитату из Шекспира, не содержащую прямого намека на любовь. Третий дом подобен остальным домам, он должен быть с кем-то разделен. Для посетителей (а любой, кто не является художником, философом или теологом, будет в этом доме посетителем), третий дом — это место, куда они жаждут вернуться, и куда действительно возвращаются, чтобы повторить неповторимый опыт. Опыт проживается; он живет в воспоминаниях. Опыт надо вызывать в памяти вместе, даже если он был получен не совместно. Посетители третьего дома вместе возвращаются в него и сохраняют живой образ этого дома в рефлексиях и дискуссиях. То, что мы привыкли называть «высокая культура» — не просто сумма произведений, возведенных отдельными европейцами на пъедестал, но совокупность всех человеческих отношений: эмоциональных или дискурсивных, которые циркулируют в мире абсолютного духа.
Вымышленная история про десять мужчин и женщин, получивших от щедрого экспериментатора десять выдающихся, но разных философских трудов для личного удовольствия и образования, не является пародией. В нашей всеядной культуре, где все прошлое уже постигнуто и не осталось привилегированных произведений, эпох или текстов, общие дома, различные уровни абсолютного духа распались на мини-миры, или, если хотите, на мини-дискурсы. Можете быть уверенны: если встретятся десять человек, находящихся примерно на одном уровне культурных интересов, среди них не найдется и двух, кто бы мог разделить один и тот же художественный, религиозный или философский опыт. Предположим, первый скажет: «Я прочел книгу Х — великолепно», второй добавит: «А я был на концерте У — замечательно», третий сообщит: «Я прослушал С — бесподобно», и т. д. Никому и в голову не придет, что подобный опыт может быть разделен; в таком случае, нет и не может быть никакого культурного дискурса. Если все происходит именно так, личный опыт тоже размывается, а если даже и не размывается, то никогда не станет домом. Человек может, скорее, научить кошку слушать ту же музыку, что слушает сам, нежели рассчитывать на то, что ее будет слушать другой человек. Абсолютный дух, как считал Гегель, связан с воспоминанием. Человек вызывает в памяти прошлое, которого не помнит. Именно этим занимаются интерпретаторы. Однако при отсутствии привилегированных общих текстов, которые большинство интерпретаторов пытаются расшифровать, прошлое тоже распадается на ряды мини-интерпретаций. Один человек вспоминает одно прошлое, другой — совсем другое; и два этих прошлых ничем не соединены.
Каждый мини-дискурс напоминает нам о Кампо деи Фьори. На вопрос «где Порта Пиа» собеседник отвечает: «Порта Пиа — не моя специальность», или «Порта Пиа не входит в сферу моих интересов». Или великодушно добавит: «Спросите лучше тех, кто там живет, они знают». Тот же мини-дискурс напоминает нам и о вечно путешествующей даме.
Повсюду в мире есть люди, владеющие одной и той же специальностью. Их можно обнаружить в Мумбаи, Сингапуре, Осло и Лихтенштейне. Но в сфере всеядной культуры даже те, кто занимает одну и ту же нишу в качестве духовного дома, едва способны общаться между собой, поскольку десять человек по-прежнему будут читать десять совершенно разных книг, а сотня — сотню таких книг. То, что они читают и думают, должно быть синхронизировано. И, на самом деле, такая синхронизация происходит. Обеспечивают ее разные силы. Особенно можно выделить две: исторические события, которые почти одновременно меняют представления людей о мире, и мода. Хотя всеядная культура не признает наличие базовой духовной пищи, на самом деле, в ресторанах третьего дома, как правило, предлагают меню, основой которого является базовая пища нынешней эпохи, настоящего момента, абсолютного настоящего. В следующем году меню изменится. Текущая интерпретация придает важность всем этим древним текстам. И мы, похоже, вновь чувствуем себя в абсолютном настоящем как дома.
Конституционная демократия как дом
Мы можем кратко рассмотреть демократию как достойного претендента на статус четвертого дома для современного человека. Четвертый дом был построен в Северной Америке точно так же, как третий — в Европе. Для исследования данного вопроса можно использовать Америку как идеальное построение, без претензий на историческую точность. Зададим воображаемому американцу вопрос: «Чувствуете ли в себя дома в демократии?» или даже «Ощущаете ли вы себя дома в демократии, на основании того, что в ней живете?» Вопрос не в том, чувствует ли себя человек дома в демократии Х, но в том, можем ли мы рассматривать демократические институты, сами по себе, как базовые или почти достаточные факторы для создания домашнего уюта. Соединенные Штаты Америки — нация живущая по конституции; в Европе также есть сторонники конституционной государственности. Конституционная нация не лишена национализма; национализм в виде ура-патриотизма (jingoism) широко распространен в Америке. Однако восприятие дома у конституционных наци отличается от восприятия дома в типичных европейских национальных государствах. Ни общий язык, ни доминирующая национальная культура и религия, как во Франции, например, для сильного чувства дома здесь не нужны.
И, что еще более важно, настоящее не обусловлено никаким общим прошлым. Отсутствие исторического обоснования снимает дополнительное измерение в виде прошлого. Конституция закладывает фундамент дома, все остальное относится к предыстории.
Демократическая конституция, в равной степени, является и домом, и традицией. Но это не традиция в том смысле, в какой Карл Великий или трубадуры стали тардицией для французского культурного или пронизанного историзмом «сознания дома». Если традиция начинается с принятия конституции (ab urge condita), соотношение между новым и старым будет совершенно иным. Конституция может быть дополнена, но никогда не будет отменена. Если бы ее отменили, американцы потеряли бы свой дом. Французы аннулировали бессчетное количество конституций; и каждый раз появлялась новая. Однако существование нации (la nation) никогда не подвергалось сомнению. Франция осталась домом для французских эмигрантов.
Демократические институты формируют дом для американцев не только потому, что являются демократическими институтами, но и потому, что имеют в своей основе собственную конституцию, каркас своей идентичности, в самом широком смысле. Подобная идентичность не обязательно абстрактна. Существует такое явление как опыт демократии. У американцев есть этот опыт. Их самопонимание представлено в судебной драме, в противостоянии обвинения и защиты и в единодушном вердикте присяжных. Их идеал воплощает мужчина или женщина, исполненные гражданского мужества, политическую правду они узнают из газет, независимо от этнического происхождения, родного языка, местных традиций или от того, какую музыку они любят. Эти опыты чувственно полноценны, ведь они эмоционально возбуждают, причиняют страдание и радость и остаются в памяти.
Фрэнк Михельман, один из самых ярких американских коммунитарианистов, однажды сказал, что демократию надо отвоевывать каждый день. В этих словах содержится глубокий трюизм. Но в Европе этот трюизм вызывает совсем не те ассоциации, что в Америке, по крайней мере, на данный момент.
Совсем недавно один знакомый попросил меня описать свой американский опыт. Я удовлетворила его любопытство. Начав слушать мой рассказ, приятель воскликнул: «Да это же Токевиль!» «Естественно, — ответила я, — со времен Токевиля ничего не изменилось». Это вовсе не означает, будто ничего не происходило. Однако курс, которым следуют в Америке политические события, очень похож на аналогичные события, происходившие в государствах прежних эпох, таких, например, как Римская республика. Данная схема радикально отличается от структуры исторических изменений, которым подвергалась Европа на протяжении того же периода времени по общему календарю. Исключение составляют две мировые войны, когда Америка вступила в прямой политический контакт с европейской и азиатской историей.
В самой Америке ничего не изменилось; демократию надо было отвоевывать заново каждый день. Насилие приобретало угрожающий размах; общество толкало маятник современности в одном направлении, доводя его практически до точки саморазрушении. Затем маятник отбрасывало назад, и моментальное равновесие восстанавливалось. За последние двести лет в Америке мы столкнулись с миром, который Гегель наблюдал в процессе усмирения апокалипсиса, вызванного Французской революцией. Отрицание встроено в систему. И эта система одновременно является системой морали (Sittlichkeit), при этом в системе морали отсутствует третий (европейский) дом. Именно поэтому большинство рассматривается как морально-этический авторитет. Ценным считается согласие, а не разногласие, как это было до формирования современности.
Демократическая конституция — это дом, который невозможно унести с собой Человек чувствует себя дома благодаря повседневным нормам и обязательствам. В этом смысле, четвертый дом, подобно первому, привязан к определенному пространству. Его можно представить в виде гигантской Кампо деи Фьори. На римской площади ее обитателю знакомы все люди, все лица. На гигантской же площади каждый человек — индивидуалист. И все же это не совсем так, ведь гигантская Кампо деи Фьори поделена на маленькие фермы — стихийные общественные объединения (grassroot movements), группы, лоббирующие те или иные интересы, общины.
Поскольку демократическая конституция должна подтверждать свой статус в каждый момент времени, можно без преувеличения сказать, что человек, обитающий в этом доме, находится дома в абсолютном настоящем. Здесь есть только одно прошлое — прошлое настоящего, и только одно будущее — будущее настоящего. А вдруг такой ход событий сигнализирует о возврате к нормальности. Европейцы искали свой дом в истории на протяжении двух столетий; они жили в своих великих нарративах; и этому, похоже, пришел конец. Американской демократии никогда не был нужен великий нарратив. Американские граждане, в этом смысле, были похожи на афинских граждан, или на граждан Римской республики. И все же, остальные карты раздаются сейчас совершенно по-новому. У людей античного мира был общий метафизический дом. Они стремились к осуществлению судьбы, предназначенной им при рождении, будучи привязаны к своему роду, этносу и племени. Современные мужчины и женщины зависят от разнообразных обстоятельств, последствия которых заставляют их страдать и радоваться. Перечисленные выше отправные факторы не определяют их судьбу, но то, что ты не получил при рождении, можно обрести посредством выбора.
Мы указали, что американская демократия — эта гигантская Кампо деи Фьори — не изменилась с момента своего возникновения, хотя с тех пор произошло немало всего. Поправки были внесены не только в конституцию, но способы, при помощи которых общество справляется с конфликтами и травмами, остались неизменными. Гигантская площадь всегда была раздроблена на маленькие площади: лагеря, общины и группы влияния. Именно на территории этих маленьких площадей постоянно происходит откат к варварству. Маленькие дома, где постоянно возникают и разворачиваются конфликты Большой площади, по определению противятся универсализму. Они проталкивают собственные интересы и разбухают от негодования, относясь ко всем остальным с подозрением. Они мобилизуют свой собственный лагерь путем подавлении индивидуальных вкусов и мнений, порождая извращенцев и врагов. Они также формируют «расы» из этнических или религиозных групп. В конечном итоге, нет ничего проще, чем создать расу чужих. Достаточно заметить некоторые особенности в поведении, жестах, речи другой группы, объявить их отвратительными и врожденными — и новая раса готова. Наряду с чужими религиями, этническими группами, мужчинами и женщинами с другим цветом кожи, в последнее время, в самом сердце американской демократии, даже противоположный пол стал восприниматься как раса чужаков.
Таким образом, если американец утверждает, что чувствует себя дома в рамках американской демократии, это не просто фигура речи. Демократия, в целом, не является домом, но та или иная конкретная демократия может им быть, если ее граждане, ее нынешние матери и отцы-основатели каждый день основывают ее заново. Если такой дом существует, он находится в пространстве — с собой его не унесешь; он обладает и временной характеристикой, существуя в абсолютном настоящем. Однако демократический дом, сам по себе, не гарантирует ликвидацию антидемократических и даже тоталитарных установок, он не препятствует применению физического насилия, используемого как оружие в ходе применения силы. Демократия легко уживается с расизмом; в мире случайностей откат к варварству, похоже, является присущ демократической цивилизации. Тому, кто ищет лекарство от нетерпимости, узости мышления, предрассудков и слепой ненависти, следует обратиться к либерализму. Однако либерализм не станет домом, он им не является. Либерализм — это всего лишь принцип, убеждение и точка зрения. Либералом можно быть в любом из домов. И все же, дом человеку нужен. Демократия, как адекватная политическая форма современности, могла бы стать домом для всех современных людей — и для либералов, и для антилибералов. На этом этапе Европа вполне могла бы американизироваться. Тогда европейские демократии образовали бы территорию, гигантскую Кампо деи Фьори, где различные силы терпимости и нетерпимости вели бы борьбу за вечно меняющиеся ставки. Можно предположить, что в такой схватке обе стороны обречены на поражение. Тем не менее, мы можем сохранять надежду на то, что ненависть, неприязнь и враждебность не возьмут верх в нашем доме.
Кто создает дом в Европе после эпохи больших нарративов
Начав размышлять над вопросом «где мы чувствуем себя дома?», я попыталась сначала исследовать качество домашнего опыта. Прежде всего, я говорила о чувственной насыщенности восприятия дома как пространственного явления, о знакомых запахах, звуках и вещах. Мы храним их в своей памяти, именно к ним мы возвращаемся. Сегодня это почти невозможно.
Аспекты первичного восприятии дома, перечисленные выше, проистекают из нашего повседневного «общения» с предметами: мебелью, кухонной утварью, обоями, игрушками. Пока Европа переживала резкий и болезненный переход от предсовременного общественного устройства к современному, предметы повседневного быта обеспечивали постоянство. Великая армия Наполеона вторглась в Европу, но одни и те же часы по-прежнему переходили от деда к отцу и от отца к сыну. Одни и те же вещи продолжали «населять» не только поместья английских джентри, но и хижины французских крестьян. Когда сын возвращался домой из странствий, он мог обнаружить все вещи на старых местах, даже если их исторический блеск успевал, порой, померкнуть. Интересная закономерность: чем скорее европейская история стала затихать после нового апокалипсиса в виде Холокоста и Гулага, тем большее количество предметов быта отправились в собственное историческое путешествие. Теперь, возвращаясь домой из странствий, сын не узнает дом своего детства. Воспоминание сохранилось, но узнавание уже невозможно. Поэтому приметы узнавания воссоздаются искусственно: при помощи фотографий, выставок, фильмов (пример — немецкий фильм 1938 г. «Отчизна» (Heimat), и ностальгических путешествий. Активное увлечение различными движениями по охране окружающей среды нельзя объяснить одними рациональными соображениями. Защита окружающей среды — это и защита дома, среды обитания, куда человек еще может вернуться.
Дома, конечно, лучше, но так ли хорош этот дом, и был ли он хорош? Знакомый запах может оказаться запахом горящей плоти. Привычный жест — рукой, занесенной для удара. Цвет может быть темным и серым. Дом — это место, где мы плакали, но никто нас не слышал, где мы терпели голод и холод. Дом был малым кругом, разорвать который было невозможно; детство казалось бесконечным, туннелем без выхода. В конечном счете, он находился в мире, где у каждого из нас был дом, где метафора о земле как юдоли скорби столь полно описывала наш опыт. Приятно не возвращаться, даже на кушетке психоаналитика. Мы можем обрести легкость бытия, невыносимую легкость бытия, совсем как та женщина из аэробуса по пути в Австралию.
«Где мы ощущаем себя дома?» «Мы» в этом вопросе может означать «мы, современные люди», или «мы, современные люди в двадцать первом веке», или «мы, современные евопейцы в двадцать первом веке». «Ощущаем себя дома» может означать «дома в пространстве» и «дома во времени». Переформулирую вопрос: «Где европейцы в двадцать первом веке ощущают себя дома в пространственном и временном отношении?»
Ответ кажется очевидным. Современные европейцы ощущают себя дома в Европе в двадцать первом веке. Но звучит он слишком просто. За последние двести лет все знаковые европейские культуры были охвачены страстным желанием попасть в иное место, иное время, обрести настоящий дом. Восприятие дома у типичного современного жителя или жительницы Европы, лишенных метафизических корней, перемещенных вследствие исторических потрясений, страдающих от неудовлетворенности, отравлено сомнениями и неопределенностью. Наличие знакомых предметов и ощущений рассматривалось как чужеродное препятствие. Незнакомое появляется в сфере домашнего — мира, отдыха, безопасности и любви, начиная с Руссо и Гогена и заканчивая романтиками третьего мира всего несколько десятилетий назад. Для европейцев типично было ощущать себя в Европе не дома. Однако закат великого нарратива, до недавних пор — имманентной формы европейского самосознания, возвестило о появлении менее драматизированной и менее двусмысленной европейской идентичности. Тут же появились и признаки «американизации Европы».
Волны реальных, а не только вымышленных великих нарративов уже сошли не нет, однако их последствия превратились в наши традиции. Напомню лишь о нескольких. У нас есть «третий дом», дом абсолютного духа, и мы, по-прежнему можем выбирать его в качестве места обитания. В нем мы можем ощущать себя дома во всех местах и во все времена. Отдельные конкретные миры этого третьего дома вряд ли можно назвать «европейскими», ибо они принадлежат к разным национальным культурам. Однако постоянно наличествующая возможность пожить в третьем доме, или, время от времени, посещать его, стала частью домашнего опыта для европейцев, в целом. Именно это составляет третье и четвертое измерения домашнего опыта в европейской культуре, и только в ней. С этой точки зрения, мы могли бы перевернуть изначальный вопрос и вместо того, чтобы спрашивать: «Где мы (современные европейцы в двадцать первом веке) чувствуем себя дома?», спросить: «Кого в двадцать первом веке можно отнести к европейцам?» Вероятный ответ: «Европеец — это человек, который чувствует себя дома в третьем доме (абсолютного духа) или тот, кто регулярно посещает этот дом». Нет нужды объяснять, то такие люди являются не просто европейцами, но и создателями европейского дома. Общий рынок или Европарламент Европу не делают — ее создают кошки третьего дома.
Место обитания, неразрывность времени и пространства, племя и боги племени — все это вместе составляло дом до наступления современности. Теперь этот дом хранят и, порой, воспроизводят в третьем дома, живом музее воспоминаний. Чтобы сохранить опыт дома, который существовал до наступления современности, мы создали третье и четвертое измерение наших постсовременных жизней. Реставрация — европейское изобретение. Здесь же возникла идея о создании новых центрах урбанистической культуры (urbs), однако современные центры урбанизма возводились на целинных землях. Прошлое сохраняется здесь в абсолютном настоящем. Демократия есть абсолютное настоящее, заключающее в себе прошлое и будущее настоящего. Третий мир, при этом, сохраняет прошлое в настоящем. Будущее, устремленное за пределы будущего для настоящего, больше не существует. В досовременном доме будущее всегда присутствовало как будущее места, племени, богов племени. Великий нарратив предпринял блестящую попытку распространить наше воображение на будущее, выходящее за пределы нашего горизонта. Но его больше нет. Современные мужчины и женщины заключены в тюрьму историчности, и они это уже осознали. В самом широком смысле, именно эту тюрьму историчности мы и можем назвать своим домом.
Где мы чувствуем себя дома? Мы можем находиться где угодно, то есть, нигде, свободно паря в абсолютном настоящем. Географическая неразборчивость — возможность, доступная всем, но мы не вольны выбирать время. Более того, именно опыт всеобщей, универсальной одновременности (распространяемой посредством телекоммуникаций, но не ими вызванной) провоцирует страсть к путешествиям на базе географической неразборчивости. Космополитический характер используемых нами предметов (автомобилей, телевизоров, кухонной утвари, журналов и прочего) и связанных с ними фантазий — часть опыта универсальной одновременности. Все географически неразборчивые люди становятся такими по разным причинам (у каждой группы или человека присутствует своя мотивация), но и привязка к географии, сама по себе, стала явлением мирового порядка. Так же как и второй, или третий «географический брак». В вопросах «нахождения дома» больше не действует аксиома «пока смерть не разлучит нас». И это не просто метафора. Где моя семья, там и мой дом. Если, при малейших признака х дискомфорта, браки распадаются, с домом расстаются без особых хлопот.
Однако в мире случайностей возможно все. Человек может сделать выбор и поселиться на собственном Кампо деи Фьори, или нигде не обустраиваться, или решить, что он будет чувствовать себя дома сразу в нескольких местах, не предаваясь, при этом, географическому разврату. В конечном счете, можно одновременно ощущать себя дома в собственном пространственном доме, в абсолютном настоящем как во временном доме, в царстве абсолютного духа, то есть, в третьем доме, а также в демократической культуре своей конституции. И в то же время — быть дома в своем родном языке, в обычаях этнической группы, в религиозной общине, в стенах альма матер или в близком кругу собственной семьи. Один из домов можно всегда носить с собой, во второй — стремиться вернуться, а третий — никогда не покидать.
Если все это имеет смысл, то вопрос «где мы чувствуем себя дома?» поставлен неверно, по крайней мере, если под «мы» подразумеваются европейцы в двадцать первом веке. Не найдется, наверное, и двух людей, способных ответить на этот вопрос совершенно одинаково. Степень насыщенности нашего чувственного опыта в отношении дома варьируется от дома к дому. Один дом ближе к логике сердца, другой — к логике разума. Между домами существует запутанная иерархическая система. Система эта носит исключительно личный, а не нормативный характер. По крайней мере, она не должна быть нормативной: нормой является отсутствие нормативности. Ведь если иерархия домов выстраивается по нормативной схеме, современная культура входит в состояние гражданской войны. Я могу выделять собственную этническую принадлежность как главный дом, среди всех остальных. Однако, если члены моей общины прикажут мне предпочесть именно этот дом и отказаться от остальных, мы войдем в состояние гражданской войны. Войну между этническими, религиозными и прочими общинами и группами вызывает не субъективное предпочтение, но нормативный нажим. Демократия, как мы увидели на примере Америки, не гарантирует защиту от слабо сублимированного или несублимированного насилия. В качестве возможного противоядия я упомянула либерализм.
Либеральные принципы позволяют любому отвечать на вопрос «где вы чувствуете себя дома?» на свой манер; иерархия домов может быть уникальной для каждого человека, но сами дома — не единичны. Их разделяют с другими и разделяют на всех уровнях. Жизнь в доме — будь это нация, этническая община, школа, семья или даже «третий дом» — это не только опыт, но и вид деятельности. Действуя, человек также следует определенным стандартам, подчиняется формальным требованиям, принимает участие в языковой игре. Х может сказать: «Это мой дом», — но если остальные (члены семьи, религиозной общины и т. д.) не подпишутся под этим утверждение, он не будет чувствовать себя дома. Дома человека должны принимать, ждать, или хотя бы терпеть. Все дома, до определенной степени, деспотичны: они требуют самоотдачи, чувства ответственности и определенной готовности ассимилироваться. Вопрос не в степени ассимиляции, а в ее типе. Если требование ассимиляции сопровождается скрытым или явным требованием отречься от других домов — тех, которым человек отдает личное предпочтение, призыв к ассимиляции становится не просто умеренно деспотичным, но исполненным очевидной нетерпимости. Это, в равной степени, справедливо для всех уровней: и если национальное государство настаивает на ассимиляции с условием, что его граждане откажутся от своих этнических общин, и если этнические группы настаивают на ассимиляции и давят на своих членов с тем, чтоб те отказались от национальной культуры. В последнее время много и справедливо говорится о деспотии универсализма, однако партикуляризм может быть не менее деспотичен, нежели универсализм. Оба — всего лишь две стороны одной и той же монеты.
Не все дома требуют самоотдачи или ответственности. Как-то раз, пролетая на самолете над Средиземным морем, я увидела голубую полосу воды, тянущуюся между серыми очертаниями суши и островов, на которых зародилась моя культура; я испытала сильный эмоциональный всплеск, так как ощутила, что именно здесь встретила свой самый глубинный, изначальный дом. Это был опыт свободного парения, он ни к чему меня не обязывал. Но дома, в которых человек действительно живет и обитает, обязывают его. В мире абсолютного настоящего даже песня соловья и тень каштана обязывают, ведь мы не можем рассчитывать, что они останутся на своих местах завтра.
Где же мы тогда чувствуем себя дома? Каждый из нас обитает в мире самостоятельно избранной и разделенной с другими судьбы.
Фото: Fortepan / Rádió és Televízió Újság
