Иштван Габор Бенедек
Комлошская Тора
перевод Оксаны Якименко
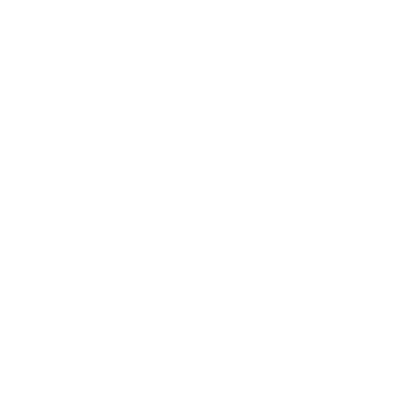
Иштван Габор Бенедек
(1937 — 2022)
Время отдавать долги
У каждого переводчика/издателя/критика, наверное, есть свой шкаф или ящик с долгами. Я потихоньку раздаю свои. Вспомнила про одну повесть, которую автор очень хотел увидеть на русском (увидел) и опубликовать в России (не опубликовал). А совсем недавно я узнала, что год назад он умер, и мне стало как-то даже стыдновато, что не вышло в свое время эту вещь пристроить. К тому же, рядом с деревней, где я часто теперь обитаю, есть место с очень похожей историей (правда, общины и самой синагоги там уже не осталось). Но сначала об авторе:
Иштван Габор Бенедек родился в 1937 году в г. Дюла, но жил с семьей в Тоткомлоше (юго-восточная Венгрия). В 1944 году был депортирован в Берген-Белшен. Писатель получил аттестат зрелости в Кечкемете, а с 1957 года учился в Будапеште в Еврейской теологической семинарии у знаменитого специалиста по иудаике Шандора Шайбера (история семинарии — отдельный трагический и, одновременно, выдающийся сюжет с библиотекой, которую Эйхман собирался выставлять в «Музее вымершей расы» — его планировали открыть в столице Чехии нацисты, в 1980-х годах книги из будапештской семинарии нашли в Праге и вернули в Будапешт, а после войны семинария долго оставалась единственной высшей школой по подготовке раввинов и канторов для всех стран Восточного блока, где еще остались еврейские общины; сегодня это ОRSZE — Будапештский университет еврейских исследований).
Семья Бенедек состояла в родстве с писателем Шандором Броди и американским «королем экрана» Адольфом Цукером, основателем киностудии «Парамаунт». За время работы журналистом Иштван Габор Бенедек успел поработать репортером в газете «Мадьяр хирлап» (Magyar Hírlap) (с 1968 года), затем на протяжении многих лет заведовал отделом в еженедельной газете «Орсаг-Вилаг» (Ország-Világ — Страна-мир). С 1983 по 1989 год был сотрудником экономического отдела, а позже заместителем руководителя отдела внутренней политики в газете «Непсабадшаг» (Népszabadság). В 1989−90 годах работал заместителем главного редактора еженедельной газеты «Мадьярорсаг» (Magyarország). Накануне смены режима, в 1990 стал учредителем и главным редактором финансово-экономических еженедельников. В 1999 году вышел на пенсию, а годом ранее создал журнал об общественной и духовной жизни венгерских евреев «Ремень» (Remény — Надежда).
Иштван Габор Бенедек попробовал себя во всех жанрах: писал репортажи, очерки, передовые статьи, аналитику, сценарии для документальных и художественных фильмов, делал передачи для телевидения и радио.
Сборник рассказов «Комлошская Тора» (Komlósi Tóra) 1994 года — первый опыт Бенедека как писателя. Право на экранизацию повести, давшей название сборнику, получил Миклош Янчо, но из-за нехватки средств фильм так и не вышел. Затем экранизировать произведение задумал ученик Иштвана Габора Бенедека, режиссер Тамаш Кеменьффи, но и этот замысел, к сожалению, не был реализован. Договор о постановке фильма по рассказу «Мессия» из этого же сборника заключили с французским кинорежиссером Рене Гаинвилем, но он, увы, умер в 2014 году. Иштван очень хотел увидеть свою повесть напечатанной в каком-нибудь русском журнале, но журналы как-то не хотели ее печатать, хотя мы (то есть, Иштван Габор Бенедек и я как переводчик) много кому ее предлагали. Прошло довольно много лет. В прошлом, 2022-ом году Иштван умер. Искренне хочется этой историей поделиться. Особенно сегодня. Но повесть все-таки не маленькая, поэтому здесь опубликую только фрагмент — завязку, а если кто-то надумает издать, пишите, издадим.
Оксана Якименко
Моя история про пятьдесят шестой год тоже не водой писана.
В комлошском иудейском храме собрались мрачные, расстроенные мужчины. Местная синагога была открыта во времена празднования тысячелетия Венгрии, в конце девятнадцатого века и даже в своей повседневности выглядела внушительно. Однако война и последовавшие за ней политические битвы нанесли зданию неизлечимые раны. Крыша протекла. Грунтовые воды пропитали облупившуюся штукатурку на стенах, в рассохшихся рамах почти все стекла оказались повыбиты. Разломанный и сожженный амуд — подставку для чтения торы, — который когда-то стоял на помосте и был опоясан узорным подлокотником, кое-как заменили, даже покрыли куском бархата, но скамеек не осталось ни одной. Пришедших помолиться ждала лишь дюжина разномастных стульев, выставленных прямо на утрамбованной земле — дощатый пол разнесли в щепки еще в сорок четвертом.
И в довершение упадка теперь и шкаф для хранения торы стоял пустой. Единственный священный свиток общины, который в огне мирового пожара прятали благословенные руки, и по которому каждую субботу и каждый праздник читали соответствующий неделе отрывок, лежал мертвый на амуде. Надежды на восстановление, спасение его уже не было. Он умер от ран, ушел безвозвратно. Было произнесено и последнее слово: со свитком Торы придется проститься. Убитые горем мужчины пропели над ним поминальную молитву.
Тут же приняли решение: надо срочно привезти из Будапешта новую тору.
Ответственность за смерть торы, в определенном смысле, лежала на совести кантора синагоги — Хенрика Гольдштейна. Никто его, естественно, не обвинял, более того, стоявшие рядом с ним евреи выказывали ему максимум возможного уважения, и, что еще существеннее, сам он не страдал от чувства вины, максимум — испытывал некоторые угрызения совести.
Стоит отметить, что Хенрик Гольдштейн сам был родом не из деревни Тоткомлош. Сюда он переселился в 1951 году из Будапешта в возрасте тридцати пяти лет. Можно сказать, что жизненный путь у него был типично еврейский. Родители, жена, дочь, успевшая прожить всего несколько месяцев — светлая им всем память — сгинули в Освенциме. Самого же Хенрика, выпускника ешивы из городка Шаторайауйхей и перспективного столяра-краснодеревщика, Холокост надломил настолько, что он оставил все светские занятия и с твердой решительностью в сердце поступил на религиозную службу. Хенрик решил посвятить жизнь оставшимся в живых венгерским евреям. Надо будет — в качестве кантора, а то и шехтером*, шамесом, учителем. Довелось ему видеть разрушение и смерть, и решил он доступным ему способом воспрепятствовать дальнейшему угасанию общины.
* Шехтер (шайхет, шойхет) — тот, кто совершает обряд обрезания.
Стезю он выбрал непростую. Из тех, кто уцелел, почти все, без исключения, были люди больные, ослабленные, нервные и обиженные, требовательные и агрессивные; многие — и очень многие! — к тому же еще и разуверились в Боге. И, правда, тяжело перенести, особенно израненной душе, когда Бог решил отвернуться от своего избранного народа. Воспитанным в вере евреям, пережившим гетто, принудительные работы и лагеря, опасность угрожала с трех сторон. Изнутри напирал атеистический, по своей сути, сионизм; извне — марксистская идеология, а между первыми двумя подстерегало эгоистичное желание сосредоточиться исключительно на собственных интересах. Ортодоксальных иудеев становилось в Венгрии все меньше: община таяла, как снег на солнце.
В одиночестве Хенрик Гольдштейн долго не выдержал и в какой-то момент снова женился. Супруга, Эстер происходила из большого, знатного семейства из рода Цитромов. Вседержитель благословил ее утробу четырьмя дочерьми — словно хотел воздать Хенрику сторицей. Однако же столь стремительно растущее семейство — почитай, по ребенку в год, из тех ничтожных денег, которые платила Гольдштейну община, прокормить было совершенно невозможно.
Идею переехать в провинцию, видимо, подал Хенрику кто-то из Комлоша. Кто это был — не так интересно, но такие мысли сами собой не рождаются, их придумывают на Небесах. «Сами подумайте, Гольдштейн, — уговаривал добрый советчик, — где такая пшеница родится, как в Тоткомлоше, и где знаменитая мельница Пипиш, там вы с голоду не умрете». Девочки были бледные и вечно голодные, так что после нескольких второпях отосланных писем и судорожно прочитанных ответов, семейство уже погрузилось в поезд.
Жизнь кантора проходила вне политики. Он читал не «Сабад Неп» — орган венгерской коммунистической партии, а Тору, погружался не в материалы партийных семинаров, а в премудрости Талмуда, радио в доме не было, так что новости обо всех достижениях народной демократии, о стране железа и стали, об успехах победного строительства социализма доходили до Хенрика по чистой случайности. Он и не заметил обострения классовой борьбы и усиления борьбы с клерикализмом. В том мире, в котором он вырос, чувство незащищенности ни на минуту не покидало еврейские сердца, так почему же Хенрик Гольдштейн должен был бояться нового режима больше, чем прежнего?
Если бы только не одно «но» — нефть. Она-то и была всему причиной.
С чего начать эту историю? Наверное, с крошечного домика, больше похожего на хутор с птичьим двором для кур и уток, того, что напротив мельницы Пипиша, со стороны села Касапер. Раньше дом принадлежал погибшему семейству Лазаровичей, но, так как никто из них домой не вернулся, право собственности перешло религиозной общине, вселившей сюда Гольдштейнов.
Семьи комлошских евреев приложили все усилия, чтобы прибывшие из дальних краев переселенцы как можно скорее почувствовали себя дома. Позвали словацких умельцев привести в порядок стены и крышу, добавили недостающую мебель и посуду, а женщины научили выросшую в городе Эстер откармливать уток (чтобы толстели), ходить за птицей. Все соседи радовались вместе с родителями, что девочки начали выправляться и округляться.
По вечерам пятницы и по субботам обшарпанную синагогу вновь стал посещать божественный дух. Хенрик Гольдштейн, как положено, зачитывал из единственной сохранившейся Торы недельный отрывок, пересказывал пояснения к нему великих раввинов-талмудистов и ощущал себя счастливым человеком. По будням он обучал местную еврейскую детвору читать и писать на иврите и, когда звали, ездил в Орошхазу, Сарваш, а то и в Сентеш или Ходмезёвашархей для ритуального забоя скота. Нередко, к сожалению, звали его и на похороны — не только для того, чтобы помолиться за душу усопшего, но и, увы, для того, чтобы у могилы собрался миньян*, и, согласно древней заповеди, евреи-мужчины могли составить общину в тяжелый час прощания.
*В иудаизме — группа из десяти взрослых (старше 13 лет) мужчин, необходимый для отправления религиозных обрядов.
Однако же начать нашу историю можно было бы и с бурной хроники венгерской нефтяной промышленности. В поисках стратегического сырья нацистская империя начала обследовать и границы нефтяного месторождения в окрестностях Сегеда-Алдё — так случилось, что на границе Тоткомлоша появились буровые вышки. Да только приближение фронта прервало работы, и оставленное немцами оборудование досталось уже советским инженерам. «Масовол», то есть, венгеро-советско нефтяное акционерное общество, уже в 1946 г. приступил к завершению работ, начатых немцами в Тоткомлоше.
Разработку месторождения начали с двух скважин. Одну из них решили бурить прямо за бывшим домом Лазаровичей, а теперь — местом обитания Гольдштейнов.
Нефтяники буквально разнесли дом на кусочки. Шла эпоха великих трудовых подвигов, бесконечных соревнований. Шахтер, кирку вгоняй поглубже! Ткачиха, за станком следи! Кого волнует дом на краю тоткомлошской деревни? Во дворе у Гольдштейнов громоздились трубы, железные пруты, бочки, сваленные в кучу гайки, болты и крепеж. Мордатые нефтяники в фуфайках и резиновых сапогах разобрали забор, бесконечно пыхтящие и грохочущие моторы сделали нормальную жизнь в доме невозможной, не давали ухаживать за скотиной, сводили с ума и нарушали ночной покой.
И надо же было именно тогда случиться тому, что возложило на Хенрика Гольдштейна — и так уже проникнутого чувством долга — еще большую ответственность. Он, естественно, и не подозревал о поединке Матяша Ракоши и Имре Надя, о последствиях ХХ съезда КПСС, о венгерской оттепели. Хенрик знал только одно: будапештская еврейская община неожиданно выделила средства на восстановление синагоги. Сумма небольшая, но работу начать было можно.
В ту субботу, когда евреи попрощались со старой синагогой в надежде вскоре увидеть ее обновленной и прекрасной, Хенрик Гольдштейн перед чтением Торы произнес красивую речь о человеческом долге. Так случилось, что мужчины, приглашенные на чтение седера и мафтиров*, добавили к обычным приношениям еще кое-что. Липот Бухбиндер обязался привести в порядок скамейки, Лаци Грос — расписать стены, его двоюродный брат Йошка Шварц пообещал подновить дверные замки. Когда прозвучала последняя молитва, Гольдштейн сообщил, что заберет единственную Тору из синагоги к себе домой, и, пока работы в старом здании не будут окончены, все службы, в том числе, и чтения Торы, будут проходить у него на квартире.
Седер и мафтир – здесь в значении «отрывки из Торы».
Все уже готовились в душе к славным осенним дням, к новому году, к Йом Кипуру, когда и приключилась беда.
То ли уплотнение скважины выполнили недостаточно хорошо, то ли еще что-то, но задвижки не выдержали давления с глубины 1600 метров силой в 130 бар. Газ, вода, нефть, щебенка, песок смешались в этом жутком фонтане в жирную кашу. С крыши дома Гольдштейнов посыпалась хрупкая черепица, стены, сложенные из необожженного кирпича, пошли трещинами, в комнаты хлынула страшная липкая масса.
Все это произошло в половине шестого утра. В двери ввалились люди в касках и резиновых сапогах и с криками «Вон из дому, быстро!» начали хватать все, что попадалось под руку. Из скважины вырывались рев, грохот, шипение и свист. Девочки, как были, в ночных рубашках, плакали от страха, Эстер запричитала: «Кастрюльки! Тарелки!», но вся утварь уже плавала в чудовищной жиже. Великан с перепачканным лицом сложил ладони рупором и кричал: «Не дай Бог, кто спичку зажжет!» Гольдштейн бросился к уже пустому шифоньеру, куда спрятал Тору, прижал к груди священную реликвию, но в ту же секунду поскользнулся. В руках у Хенрика остался только бархатный чехол — серебряная корона скатилась на пол, щит за что-то зацепился, цепочка оборвалась, лента, связывавшая свитки натянулась и разорвалась. Листы пергамента, плотно исписанные буквами, сорвались с колышков и покатились в угол — один из рабочих наступил на свиток. Он, конечно, и понятия не имел, что происходило, видел только, как тощий бородатый еврей, спотыкаясь, шныряет по комнате, валяет дурака, когда в любую секунду может нагрянуть катастрофа. Испачканной в нефти рукой рабочий схватил Тору, разорвав ее пополам, поднял Гольдштейна и, как тюк с вещами, вынес обоих во двор.
Скважина, словно взбесившийся библейский кит, выплевывала из недр желто-серую вонючую жижу. На шум сбежались все соседи и работники с мельницы Пипиша, весть о случившемся дошла даже до тех евреев, что жили подальше. Нашлось — еще бы не нашлось! — несколько смельчаков, которые не побоялись испортить одежду и, несмотря на запреты нефтяников, снова и снова бросались в дом вместе с Хенриком Гольдштейном, чтобы спасти хоть несколько ценных вещей.
Аварийные бригады, присланные из Кардошкута и Альдёра к вечеру заглушили скважину. Несмотря на усталость, нефтяники буквально светились от счастья. Обнимали друг друга, хлопали по грязным и липким комбинезонам. Вот и славно! Нефть нашли, и трагедии, в конечном счете, никакой не случилось. Разрушенный домик Гольдштейнов казался такой незначительной потерей, что руководитель работ только к вечеру сообразил сказать несколько слов в утешение отчаявшемуся семейству. «Столько денег получите, — жизнерадостно сообщил он Гольдштейнам, — каждой дочке хватит на богатое приданое». Сказать — сказал, но справку об ущербе не выдал. Потом, мол, напишите, что вам надо, отошлите в центр. А ночью где спать, где семье теперь жить? Председатель совета обязательно обо всем позаботится. А то как же!
Тяжелые времена настали для Гольдштейнов. Они сознательно отказались принять добровольную помощь единоверцев-иудеев, ведь стоит властям увидеть, что все как будто в порядке, им и в голову не придет исполнять свои обязанности. Кантор знал: от местного совета много ждать не приходится, дело-то к их компетенции не относится. Какое-то временное пристанище все-таки нашли, но не это беспокоило Хенрика Гольдштейна.
Самой большой проблемой была Тора. Наступит ведь новый год, время читать Кол Нидрей*, а на следующий день — Йом-Кипур, самый горестный из всех дней покаяния, затем Суккот с его шатрами, а с ним — снова поминальные молитвы Маскир со слезами и болью скорбящих. А у общины в Тоткомлоше нет Торы. Священный свиток пятикнижия Моисеева лежал мертвый, накрытый пледом в бельевой корзине — растерзанный, растоптанный, залитый нефтью и грязью. Наверное, никто из печальных героев нашей истории не смог бы рассказать, с каких пор существует еврейская община в Тоткомлоше, в одном все были единодушны: такого унижения и горя местные иудеи не испытывали еще ни разу, за исключением 1944-го года.
«Кол нидрей» (ивр. «Все обеты») — молитва, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом-Кипур.
Что они могли сделать в этой ситуации? Зачитывали недельные отрывки из обычного молитвенника, но слова молитвы словно бы не возносились к небу. Естественно, начали первую Книгу, знаменующую собой новый год, прочли Берешит, то есть, «В начале» — но чувствовали: чего-то в истории Сотворения не хватает. Настоящей Торы, которую можно потрогать. Священного свитка.
Фото: Fortepan / Szántó István dr.
