Шандор Мараи
Свечи сгорают дотла
Перевод Оксаны Якименко
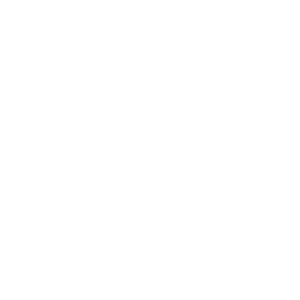
Шандор Мараи
(1900-1989)
Yet another take on Márai — странная история с этим писателем. Дикая популярность в некоторых европейских странах (чуть ли не десяток изданий дневников в Польше, например) и полный игнор у нас. Не все так просто, конечно. Даже вышедшие в прекрасном переводе Малыхиной фрагменты из книги «Земля! Земля!»* и кусочек из дневников** особенно читателей не увлекли. Сейчас вот вышли отрывки из «Травника» в «Звезде» — какой-то отклик есть, но я пока не уверена. Думаем над полноценным томом «Дневников», но здесь опубликую фрагмент из нашумевшего в свое время — и потому предложенного мне для перевода одним издательством романа «Свечи сгорают дотла»: издательство «повелось» на активную рекламу книги на Франкфуртской книжной ярмарке и наличие переводов на разные языки, но потом, почитав, решили, что текст «слишком медленный» — прямо так мне и написали в рецензии на пробный перевод. Что тут скажешь, и, правда, медленный.
*Земля! Земля!.. (Из книги воспоминаний). // Венгры и Европа. / Сб. эссе. — М.: Новое литературное обозрение, 2002. — С. 283—336.
**Дневники// Иностранная литература, 1993, № 12
История простая: два молодых военных, близких друга расстаются на сорок лет, чтобы встретиться уже не бодрыми юнцами (один отправился воевать в тропики, второй отслужил свой срок и засел в фамильном замке), но усталыми и озлобленными стариками. При встрече происходит выяснение отношений, за давней размолвкой, естественно, скрывается женщина, в которую были влюблены оба, но оба же и предали и теперь должны с этим предательством окончательно разобраться.
На мой вкус у Мараи слишком много морализаторства, но в определенном очаровании ему не откажешь (если честно, мне больше нравится другой его роман, если уж о романах говорить, а не о дневниках, — «Признания буржуа»).
1
С утра генерал засиделся в винном погребе. Ушел на виноградники еще на рассвете — в двух бочках созрело вино, а вернулся домой только после одиннадцати, когда закончил разливать вино по бутылкам. Под колоннами, на промозглой от влажных камней веранде стоял егерь, протягивая хозяину письмо.
— Чего тебе? — недовольно спросил генерал и остановился, отодвинув со лба соломенную шляпу, широкие поля которой совсем затеняли раскрасневшееся лицо. Уже несколько лет хозяин замка не вскрывал и не читал писем. Всю почту разбирал управляющий в конторе имения.
— Посыльный принес, — ответил егерь и застыл.
Генерал узнал почерк, взял письмо и положил в карман, прошел в прохладную прихожую и без единого слова отдал егерю шляпу и трость, потом вытащил из сигарного кармана очки, приблизился к окну и в полумраке, при свете, пробивавшемся сквозь планки полузакрытых жалюзи, принялся читать письмо.
— Погоди, — бросил он через плечо егерю, который уже вышел было с тростью и шляпой.
Письмо снова сунул в карман.
— Кальману сказать, чтоб к шести запрягал. Пусть ландо возьмет — дождь будет. Форма парадная. Тебя тоже касается, — произнес генерал с неожиданной подчеркнутостью, будто за что-то рассердился на егеря. — И чтоб все блестело. Коляску и сбрую пусть начинают чистить прямо сейчас. Либерию возьмешь, понял? Сам сядешь рядом с Кальманом на козлы.
— Понял, ваше превосходительство, — отозвался егерь и в упор посмотрел на хозяина. — К шести.
— Выедете в полседьмого, — продолжил генерал и беззвучно задвигал губами, точно подсчитывая. — Пойдешь в «Белый орел», там скажешь только, что я тебя послал, а коляска за господином капитаном приехала. Повтори.
Егерь повторил распоряжения. Хозяин поднял руку, взглянул на потолок — словно хотел что-то сказать — но промолчал и начал подниматься по лестнице. Егерь, напрягшись по стойке «смирно», проводил его взглядом сквозь очки, дождался, пока приземистая, широкоплечая фигура не исчезла за резными каменными перилами второго этажа.
Зайдя к себе, генерал вымыл руки и подошел к высокому, узкому бюро, крытому зеленым сукном в чернильных пятнах, где были разложены перья, чернила и тщательно, миллиметр к миллиметру выстроены в ряд тетради в клеенчатых клетчатых обложках — в такие школьники пишут контрольные работы. В центре столешницы стояла лампа под зеленым абажуром; ее пришлось зажечь, так как в комнате было темно. В засохшем, изжарившемся саду за закрытыми ставнями в прощальном гневе полыхало лето, словно поджигатель, который в безумной ярости подпалил границу, прежде чем уйти куда глаза глядят. Генерал вынул письмо, аккуратно разгладил бумагу и, нацепив на нос очки, при сильном освещении еще раз перечел рубленые, ровные, короткие строки, написанные заостренными буквами. Читал стоя, сцепив руки за спиной.
На стене висел календарь, цифры величиной с кулак: четырнадцатое августа. Генерал запрокинул голову, принялся считать. Четырнадцатое августа. Второе июля. Высчитал, сколько времени прошло между тем днем и сегодняшним. «Сорок один год,» — произнес он, наконец, вполголоса. С некоторых пор генерал стал громко разговаривать у себя в кабинете, даже будучи один. «Сорок лет,» — повторил он в замешательстве. Точно ученик, которого неожиданно застали врасплох непростым уроком, раскраснелся, откинул голову, прикрыл заслезившиеся глаза. Шея распухла, нависла над воротником кукурузно-желтого пиджака. «Второе июля тысяча восемьсот девяносто девятого года, вот когда была та охота,» — прошептал он, потом замолчал. Озабоченно облокотился на столешницу, будто зубрящий урок ученик снова принялся вглядываться в строки письма. «Сорок один год, — произнес он, наконец, генерал хриплым голосом, — и сорок три дня.» Столько времени прошло.
Тут генерал успокоился, зашагал по комнате. Потолок здесь был сводчатый, посередине своды поддерживала колонна. Когда-то комнат было две: спальня и гардеробная. Много лет назад — он мыслил уже только десятилетиями, не любил точные цифры, как будто каждая цифра напоминала о том, о чем лучше забыть, — он приказал сломать стену, разделявшую комнаты. Оставили только колонну, поддерживающую центральный свод. Двести лет назад дом этот построил маркитант, снабжавший овсом австрийскую кавалерию и получивший впоследствии титул герцога. Тогда и возвели замок. Генерал родился здесь, в этой самой комнате. В дальней темной комнате с окнами в сад и на хозяйственные постройки, была матушкина спальня, а в более светлой и просторной — гардеробная. Несколько десятков лет тому назад, когда генерал переселился в это крыло и приказал сломать стену, разделявшую материнскую комнату пополам, две ее части соединились в одно сумрачное помещение. Семнадцать шагов от двери до кровати. И восемнадцать — от стены, выходящей в сад до балкона. Он знал точно, столько раз пересчитывал.
Генерал сидел в комнате, как человек, привыкающий к пространству болезни. Помещение словно скроили по его мерке. Шли годы, а он так и не переходил в другое крыло замка, где один за другим располагались зеленый, голубой и красный салоны с золотыми люстрами, а окна смотрели в парк, на каштаны, которые весной лезли ветвями сквозь балконные решетки, горделиво вздымались розовыми свечами и темно-зелеными кронами, обрамляя южное замкового крыло перед каменными перилами. Перила поддерживали толстые ангелы. Генерал уходил в винодавильню, или в лес, или — каждое утро, даже зимой и в дождь — к ручью с форелью, а по возвращении поднимался к себе в комнату через прихожую и там ел.
— Вернулся, значит, — произнес он уже громче, дойдя до середины комнаты. — Сорок один год. И сорок три дня.
И, точно устав от произнесения этих слов, точно осознав теперь только, как много это времени — сорок один год и сорок три дня, — генерал покачнулся и сел на стул с потертой кожаной обивкой. На маленьком столике, прямо под рукой, валялся серебряный колокольчик, в него генерал и позвонил.
— Нини пусть поднимется, — отдал он приказ лакею и вежливо добавил, — Я ее прошу, — и замер, так и сидел с серебряным колокольчиком в руке до прихода Нини.
2
Нини, в свои девяносто четыре года, подошла быстро. В этой самой комнате нянчила она генерала. Здесь была в момент его рождения. Была она тогда шестнадцатилетней красавицей. Росту небольшого, но такая ладная и спокойная, будто тело ее знало какую-то тайну. Девушка точно скрывала нечто в костях своих, крови и плоти, тайну времени или жизни – то, что другому не расскажешь, на другой язык не переведешь, словами не выразишь. Была она дочерью деревенского почтаря, в шестнадцать лет родила ребенка и никогда никому так и не призналась, от кого дитя. Генерала Нини выкормила, потому что у нее случилось много молока; когда отец выгнал из дому, пришла в замок. В одном платье, да с локоном умершего ребенка в конверте – так и пришла. Прямо к родам поспела. Первый глоток молока генерал выпил из ее груди.
Так она и прожила в замке семьдесят пять лет, молча. И всегда улыбалась. Имя ее неслось из комнаты в комнату, будто жители замка предупреждали им друг друга. Так и говорили: «Нини!» — словно имели в виду: «Интересно, есть же на свете не только эгоизм, не только страсть и тщеславие, Нини…» И потому что всегда оказывалась там, где надо, ее не замечали. А раз она всегда была в добром расположении духа, никогда не спрашивали, как женщина может радоваться, если любимый мужчина покинул ее, а ребенок, для которого созрело молоко, умер. Нини выкормила и воспитала генерала — с тех пор прошло семьдесят пять лет. Порой над замком и семьей светило солнце, тогда члены семьи в общем сиянии с удивлением замечали, что и Нини улыбается. Потом умерла графиня, матушка генерала, и Нини тряпкой, смоченной в уксусе, омыла белый, холодный лоб, покрытый скользким потом. Настал день, когда и отца генерала принесли домой на носилках — он упал с лошади и прожил потом еще пять лет. Ухаживала за ним Нини: читала графу по-французски, но языка не знала, и потому читала только буквы; правильно произносить слова не умела, только буквы перебирала, медленно, одну за другой. Но больной понимал и так. Потом генерал женился и, когда вернулся из свадебного путешествия, Нини ждала молодых у ворот замка: поцеловала руку новой хозяйке дома и протянула букет роз. Она и тогда улыбалась; генерал порой вспоминал это мгновение. Много позже, спустя двадцать лет, умерла и жена, и Нини ухаживала за могилой хозяйки и ее нарядами.
У этой женщины не было в доме ни должности, ни звания, но все чувствовали в ней силу. Один генерал, в своей рассеянности, знал, что Нини уже перевалило за девяносто. Но никто об этом не заикался. Сила Нини растекалась по всему дому, по людям, по стенам, по предметам, словно тайное электричество, с помощью которого заставляют двигаться кукол на крохотной сцене бродячего театра: Янош Витез и Смерть. Не раз казалось: дом, все предметы обрушатся, если сила Нини не будет все удерживать вместе, как древние материалы рассыпаются в прах от прикосновения. После смерти жены генерал уехал, а через год вернулся домой и сразу переселился в старое крыло замка, в комнату матери. Новое крыло, где он жил с женой, разноцветные салоны, обитые потертым французским шелком, большую курительную комнату с камином и книгами, лестницу с оленьими рогами, чучелами тетеревов и головами серн по стенам, большую столовую, из которой можно было смотреть на долину, небольшой городок и дальше, на серебристо-голубые горы, хозяйкины покои и собственную старую спальню, рядом с хозяйкиной — все распорядился закрыть. Со смерти жены прошло тридцать два года, генерал вернулся на родину из дальних странствий; только Нини и прислуга заходили в эти комнаты — раз в два месяца, прибраться.
— Присядь, Нини, — предложил генерал.
Няня села. Состарилась за этот год. После девяноста люди старятся иначе, чем после пятидесяти или шестидесяти. Без обид. Лицо у Нини морщинистое и розовое — так старятся самые благородные материалы, столетние шелка, куда семья вплетает все свои уменья и мечты. За прошедший год на одном глазу у Нини выскочило бельмо. Теперь глаз был грустный, серый. Второй глаз так и остался голубым, голубым, точно вечные горные озера среди вершин, в августе. Этот глаз улыбался. Нини всегда одевалась в темно-синее, вечно одно и то же: синяя суконная юбка и цельнокроеная рубаха. Будто за семьдесят пять лет не сшила себе нового платья.
— Конрад письмо прислал, — сообщил генерал и между прочим высоко поднял письмо. — Помнишь его?
— Да, — ответила Нини. Она все помнила.
— Он здесь, в городе, — генерал сказал это тихо, словно сообщил няне крайне важную и интимную новость, — в «Белом орле» остановился. Вечером приедет, я коляску за ним послал. У нас отужинает.
— Где у нас? — спокойно спросила Нини. Голубой глаз, живой и веселый оглядел комнату.
Гостей они не принимали лет двадцать. Тех, кто иногда приезжал на обед, городских и комитатских чиновников, гостей с большой охоты управляющий принимал в лесной усадьбе, где к появлению гостей были готовы в любое время года; днем и ночью ждали посетителей спальни, ванные, кухня, большая охотничья столовая, открытая терраса, столы на козелках. В таких случаях управляющий садился во главе стол и от имени генерала приветствовал охотников или господ-чиновников. Никто уже не обижался, все знали, что хозяин дома невидим. В замок приходил только приходской священник — один раз в году, зимой, чтобы написать мелом на притолке начальные буквы имен волхвов: Гаспара, Мельхиора и Бальтазара. Священник, который похоронил всех членов семьи. Больше — никто и никогда.
— А туда? — поинтересовался генерал. — Можно?
— Месяц, как убирались, — ответила няня. — Можно.
— К восьми вечера успеешь… — спросил генерал с почти детским любопытством и наклонился вперед. — В большом зале. Сейчас полдень.
- Полдень, — согласилась Нини, — значит, сейчас и скажу, чтоб до шести проветрили, а потом прибрали, — губы беззвучно задвигались, она словно бы подсчитывала время и объем работы. — Успеем, — ответ прозвучал спокойно и решительно.
Генерал с интересом наблюдал за няней, подавшись вперед. Две жизни переливались друг в друга вместе в медленном ритме очень старых тел. Эти двое все знали друг о друге, больше, чем мать и ребенок или муж с женой. Общность, связывавшая их тела, была прочнее любой телесной связи. Возможно, причиной было материнское молоко. Или то, что Нини стала первым живым существом, увидевшим появление генерала на свет, свидетельницей самого момента его рождения, в крови и грязи, как рождаются люди. Или семьдесят пять лет, прожитые вместе под одной крышей: одну еду ели, одним воздухом дышали; затхлость старого дома, деревья под окнами — все было общее. И никак этих двоих было не назвать. Не были они ни братом с сестрой, ни возлюбленными. Бывает что-то еще, и они об этом смутно догадывались. Бывает родство ближе, чем у близнецов в материнской утробе. Жизнь перемешала их дни и ночи, оба ведали тела и сны друг друга.
Няня спросила:
— Хочешь, чтобы все было, как раньше?
— Да, — ответил генерал. — Как в последний раз было. Именно так.
— Хорошо, — только и сказала Нини.
Подошла к генералу, наклонилась и поцеловала покрытую старческими печеночными пятнами руку с кольцом.
— Обещай, что не будешь слишком волноваться.
— Обещаю, — тихо и кротко отозвался генерал.
3
До пяти вечера из комнаты не доносилось никаких признаков жизни. В пять генерал вызвал лакея и попросил приготовить холодную ванну. Обед отослал обратно на кухню, выпил только чашку холодного чаю. Потом лежал на кушетке в полутемной комнате, за прохладными стенами которой звенело и наливалось лето. Вслушивался в жаркое брожение света, шум теплого ветра под разомлевшей листвой, следил за звуками, доносившимися из замка.
Оправившись, наконец, от первого потрясения, генерал вдруг устал. Всю жизнь человек к чему-то готовится. Сначала обижается. Потом жаждет отомстить. А после начинает ждать. Генерал ждал давно. Он и не помнил уже, когда обида и жажда мести успели превратиться в ожидание. Время хранит все, но воспоминания становятся бесцветными, словно очень старые фотографии, которые снимали еще на металлические пластины. Свет, время смывают с пластин характерные оттенки линий. Надо повернуть снимок к свету, чтобы на слепой пластине мы могли увидеть того, чьи черты когда-то впитала в себя зеркальная поверхность. Так со временем бледнеет всякое воспоминание человеческой жизни. Но однажды откуда-то падает свет, и мы снова видим лицо. Генерал хранил в столе такие старые фотографии. Портрет отца — на фото он был одет в мундир капитана охраны. Кудри вьются, точно у девушки. С плеча упал белый форменный плащ — отец прихватил его у груди рукой, сверкнув кольцом, и склонил голову набок с гордым и оскорбленным видом. Он никогда не вспоминал, где и почему его обидели. После возвращения из Вены отец пристрастился к охоте. Он отправлялся на охоту каждый день, в любое время года; если не попадалась дичь, или сезон был закрыт, охотился на лис и воронов — будто хотел кого-то убить и постоянно к этому готовился. Графиня, мать генерала, выгнала охотников из замка и вообще, запретила и удалила все, что напоминала об охоте: ружья и сумки для патронов, старые стрелы, чучела птиц, оленьи головы и рога. Тогда-то капитан и построил охотничий домик. Там все и хранилось: перед камином были разложены огромные медвежьи шкуры, по стенам, на досках, обтянутых белой парусиной и обрамленных коричневыми рамками, развешано оружие. Бельгийские, австрийские карабины, английские ножи, русские винтовки. Для любой дичи. Неподалеку от охотничьего домика держали собак, большую свору: легавых, гончих, шотландских борзых; тут же размещался и сокольничий с тремя соколами в клобучках. Отец генерала так и жил здесь, в охотничьем домике. Жители замка видели его только когда все садились за стол. Стены в замке отделывали в пастельных тонах, голубыми, светло-зелеными, бледно-розовыми французскими шелковыми обоями, расшитыми золотом на мануфактурах под Парижем. Графиня каждый год лично отбирала обои и мебель на французских фабриках и в лавках во время ежегодных осенних визитов к родственникам. Поездки на родину она никогда не пропускала и закрепила это право за собой в брачном договоре, когда выходила замуж за капитана-иностранца.
— Наверное, поездки и были тому причиной, — думал теперь генерал, пытаясь понять, почему родители друг друга не понимали. Капитан охотился и, раз уж не мог уничтожить мир, в котором попадались непохожие на него — чужие города, Париж, замки, иностранный язык и привычки, — то убивал косуль, медведей и оленей. Да, видимо, поездки. Генерал поднялся, подошел к белой, пузатой поливной печи, которая когда-то обогревала матушкину спальню. Большая столетняя печь распространяла жар, словно добродушный, неповоротливый толстяк, пытающийся скрасить собственный эгоизм дешевыми любезностями. Матушка явно мерзла здесь. Замок, сводчатые комнаты посреди леса были для нее слишком темными: потому и обивала стены светлыми шелками. И мерзла, ведь в лесу вечно, даже летом, хозяйничал ветер. Вкус у этого ветра был словно вода в горных протоках, когда они весной разбухают от тающего снега и начинают течь. Мать мерзла, из-за этого и приходилось постоянно топить белую, пузатую поливную печь. Графиня жаждала чуда. И на Восток уехала потому, что страсть, настигшая ее, оказалась сильнее рассудка. Капитан познакомился с ней в пятидесятые годы, когда служил курьером в парижском посольстве. Они встретились на балу и ничего не могли поделать против этой встречи. Играла музыка, и капитан сказал дочери французского графа: «У нас чувства сильнее, фатальнее.» Все произошло в бальном зале посольства. На окнах были белые шелковые занавески, они стояли у одного из окон и наблюдали за танцующи. Парижская улица отливала белым, шел снег. В эту минуту в зал вошел внук Людовиков, французский король. Все поклонились. Король был в синем фраке и белом жилете; медленным движением он поднял к глазам монокль с золотой ручкой. Распрямившись из глубокого поклона, капитан и графиня посмотрели друг другу в глаза. Тогда они уже знали, что ничего поделать не смогут — придется им жить вместе. Оба побледнели и расплылись в смущенной улыбке. Француженка произнесла: «У вас, это где…» — и близоруко улыбнулась. Капитан сказал ей, как зовется его родина. Первое слово, произнесенное ими наедине, было именем его родины.
Осенью, почти через год, молодые вернулись домой. Иностранка сидела среди шалей и покрывал в глубине кареты. Позади остались горы, Швейцария и Тироль. В Вене супругов приняли император с императрицей. Император был милостив, как описывают в хрестоматиях. «Берегитесь! — говорил он графине, — В том лесу, куда он вас везет, даже медведи водятся. Он и сам медведь.» И улыбался. Все улыбались. Великая милость: император пошутил с французской женой венгерского капитана. Женщина отвечала: «Я, Ваша светлость, приручу его музыкой, как Орфей сумел укротить диких зверей.» И они отправились дальше, через леса и поля, благоухавшие фруктами. После границы горы и города исчезли, и жена капитана принялась плакать. «Chéri, — обращалась она к мужу, — мне дурно. Здесь все бесконечно.» У женщины кружилась голова от пустынного пейзажа, от вида ошалевших под грузом тяжелого, осеннего ветра полей, с которых уже собрали урожай; карета часами тряслась по бездорожью, только журавли тянулись по небу, да ободранные посевы кукурузы простирались по краям, точно после войны, когда покалеченная земля стелилась вслед отходящему войску. Капитан охраны молча сидел в карете, сложив руки на груди. Время от времени он просил лошадь и часами скакал на ней рядом с каретой. Родину он увидел словно в первый раз. Смотрел на невысокие дома с зелеными ставнями и белыми террасами, когда останавливались на ночлег, разглядывал жилища людей в глубине садов, прохладные комнаты, где каждый предмет мебели казался таким знакомым, даже запах шкафов. Капитан всматривался в пейзаж, грусть и одиночество которого трогали его сердце, как никогда прежде: жениными глазами видел он колодцы с журавлем, солончаковые пустоши, березовые рощи, розовые облака в сумеречном небе над равниной. Родина открывалась перед ними, и капитан, с замиранием сердца, чувствовал, что край, принявший их, это еще и судьба. Жена сидела в карете и молчала. Изредка подносила к глазам платок. В такие минуты муж наклонялся в седле и вопросительно смотрел в глаза, мокрые от слез. Но жена давала знак ехать дальше. Тогда им было дело друг до друга.
Первое время замок радовал графиню. Он был так огромен, лес и горы закрывали его от равнин: настоящий дом в чужом краю. Вслед за супругами начали прибывать грузовые повозки, в месяц по одной. Повозки шли из Парижа и Вены с мебелью, полотном, камчатной тканью, отрезами на платья и спинетом, ведь графиня собиралась укрощать диких зверей. В горах уже выпал первый снег, когда в замке все обустроили и начали жить. Снег окружил замок безмолвным и угрюмым северным войском, точно осажденную крепость. По ночам из леса выходили олени и косули, застывали в снегу и в свете луны, склонив набок головы, наблюдали за освещенными окнами замка своими чудесными, блестящими, темными и серьезными звериными глазами и слушали доносившуюся из замка музыку. «Видишь…» — спрашивала жена, сидя за пианино, и смеялась. В феврале мороз выгнал из леса волков — слуги и охотники сложили в парке костры из валежника и хищники с воем ходили кругами, влекомые пламенем. Капитан вышел к ним с ножом, жена наблюдала за ним из окна. О чем-то они так и не могли договориться.
Но ведь любили же друг друга. Генерал подошел к портрету матери. Художник был из Вены, тот, что писал и императрицу. Мать на портрете была с распущенной косой; капитан увидел картину в кабинете императора, в Бурге. На графине была соломенная шляпка, украшенная цветами, как носят летом флорентийские девушки. Холст в позолоченной раме висел над шкафом с ящичками из черешневого дерева. Шкаф тоже был матушкин. Генерал оперся обеими руками на столешницу, так лучше было видно картину. Молодая женщина на портрете кисти венского художника, слегка склонив голову набок, нежно и серьезно смотрела в пустоту, словно бы спрашивая: «Почему?» В этом и состоял смысл полотна. Благородные черты, чувственная шея, руки в вязаных митенках, в вырезе бледно-зеленого платья — белое плечо, грудь. Чужая она была. Муж и жена вели друг с другом молчаливую войну, используя музыку и охоту, поездки и званые вечера, когда замок загорался огнями — точно пламя вспыхивало в залах, конюшни заполнялись лошадьми и кучерами гостей, на каждом четвертом пролете большой парадной лестницы стояли навытяжку похожие на восковые чучела в паноптикуме гайдуки, и каждый держал перед собой серебряный подсвечник на двенадцать свечей; музыка, обрывки фраз, запах тел — все смешивалось в залах, будто все отмечали какой-то отчаянно-безысходный праздник, трагическое и величественное торжество, по окончании которого музыканты продуют свои инструменты и сообщат собравшимся некий зловещий приказ. Генерал еще помнил подобные вечера. Лошади и кучера иногда не помещались на конюшне и грелись вокруг костров, разложенных в заснеженном парке. Однажды даже приехал император — король этих владений. Его карету сопровождали всадники с белыми султанами на шапках. Два дня император охотился в лесу, жил в другом крыле, спал на железной кровати и протанцевал с хозяйкой дома. Во время танца они начали беседовать, и глаза графини наполнились слезами. Король прервал танец, поклонился, поцеловал хозяйке руку, проводил в соседнюю залу, где полукругом стояла его свита, подвел к капитану и еще раз поцеловал ей руку.
— О чем вы говорили… — спросил капитан у жены позже, много позже.
Но она не ответила. Никто так и не узнал, что сказал король женщине, которая приехала из далекой страны и расплакалась во время танца. В округе еще долго судачили об этой истории.
Фото обложки: Mattis
