Миклош Месёй
Камера Уорхола — урок фиксации реальности
Перевод Оксаны Якименко
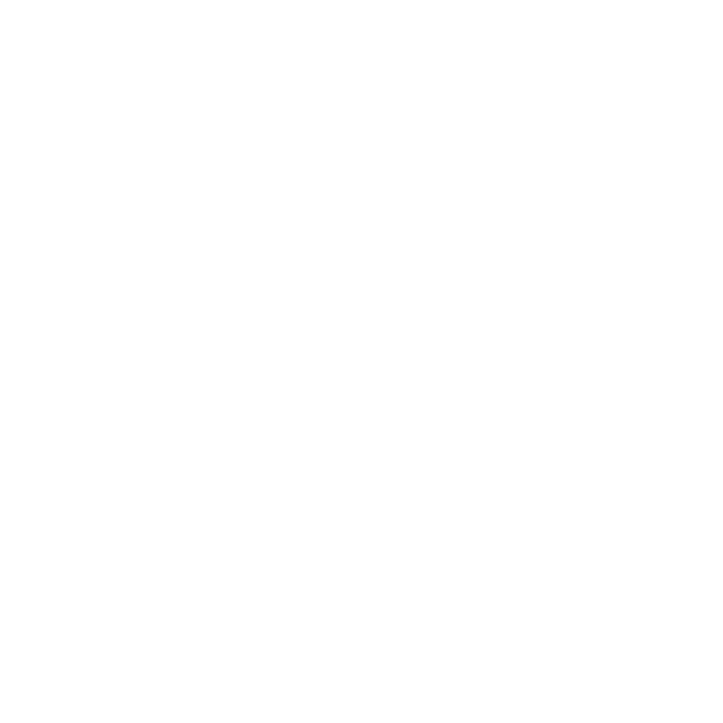
Миклош Месёй
(1921 — 2001)
Интенсивное развитие киноязыка в ХХ веке существенно повлияло на европейскую литературу, а на венгерскую—особенно. Многие венгерские писатели не просто обращаются к теме кино, но сознательно используют весь спектр киноприемов. К таким писателям можно причислить, в первую очередь, классиков рубежа XIX и ХХ веков Дежё Костолани и Дюлу Круди, из авторов второй половины ХХ века—Ивана Манди, Миклоша Месёй, Петера Надаша, Ласло Краснахоркаи, а из молодых—Жолта Ланга, Эву Берницки, Петера Фаркаша.
В конце пятидесятых-начале шестидесятых кинематографический элемент проявляется в творчестве Миклоша Месёй (1921−2001). Поэт, прозаик, драматург, эссеист, автор книг для детей, один из наиболее значительных и авторитетных венгерских писателей второй половины XX века, Месёй был также автором ряда эссе о кинематографе («Камера Уорхола», «Кино и цвет») и текстов, в которых он пробовал сочетать элементы литературы и кино (повесть «Фильм»). В отличие от предшественников, Месёи не просто использовал киноприемы в своем творчестве, но и много писал о киноязыке, рассуждал о возможностях использования новой киноэстетики в прозе.
В конце пятидесятых-начале шестидесятых кинематографический элемент проявляется в творчестве Миклоша Месёй (1921−2001). Поэт, прозаик, драматург, эссеист, автор книг для детей, один из наиболее значительных и авторитетных венгерских писателей второй половины XX века, Месёй был также автором ряда эссе о кинематографе («Камера Уорхола», «Кино и цвет») и текстов, в которых он пробовал сочетать элементы литературы и кино (повесть «Фильм»). В отличие от предшественников, Месёи не просто использовал киноприемы в своем творчестве, но и много писал о киноязыке, рассуждал о возможностях использования новой киноэстетики в прозе.
Оксана Якименко
Рассуждая о том, в какой тупик загонит себя так называемое «прямое кино» или cinéma direct, если откажется от какого бы то ни было вмешательства, киновед Жан-Луи Комолли упоминает фильм Энди Уорхола, посвященный небоскребу Эмпайр-стейт-билдинг. Напротив здания установили камеру и не выключали ее с утра до вечера. Фильм состоит из того, что может зафиксировать камера, что оказывается перед объективом. Вмешательство извне сводится лишь к периодической смене кассеты. Таким образом, происходящее фиксируют механически, в совершенно неприкосновенном виде. Результат—лишенный формы и значения фильм (по крайней мере, в традиционном его понимании), где реальное и воображаемое переплетаются и перемещаются за грань реального и воображаемого—в пространство абсолютных грез,—пишет Комолли.
Опыт Уорхола — очевидно еще не искусство, точнее, уже не искусство. Воплощенное им — добровольный дар техники. А техника, во всех отношениях, встраивается в нас. Возникает вопрос: что если, рассматривая автоматизм камеры как отправную точку, мы сможем прийти к возможности эстетики и объективности совершенного нового типа и даже создать условия для формирования художественного вымысла нового типа — не только с позиций кино, но и прозы, и вообще, художественного осмысления реальности.
В конечном итоге, у нас может быть два желания: зафиксировать реальность и отстраниться от нее. Не все равно, как мы будем трактовать ключевые понятия. Требуется дать одно до наивности простое определение. Под реализмом мы попробуем понимать то, что стремится — в силу возможностей — быть похожим на видимую-переживаемую реальность, подражать ей. А под идеализмом нечто, что — так или иначе — хочет стать системой образов, метафорой реальности; или даже не метафорой реальности, а просто автономным, самодостаточным художественным вымыслом. Варианты идеализма, в принципе, бесконечны; в той степени, в которой независимо и бесконечно воображение. Хотя и оно требует немедленного восполнения.
Тотальное подражание такая же химера, как и тотальная метафора, абсолютно автономная фикция. Максимально доступное нам приближение к реальности — уже есть некая трансформация (как в естественных науках: наблюдение = вмешательство). Если первое не может быть тотальным, то и вторая не сумеет ей стать. Так же и воображение не творит из пустоты, но всегда додумывает реальность, или наоборот. Отношения между воображением и реальностью подобны игре на вытеснение. Воображение проникает туда, куда его подталкивает знание актуальной реальности. Таким образом, жесткое противопоставление наших ключевых понятий предстает в менее радикальном свете.
У позднего Толстого в записных книжках есть несколько страниц-вставок. Писатель чувствует: все, что он пишет или мог бы написать, недостаточно достоверно, правдиво и важно. Все надо начинать заново, если вообще есть смысл продолжать. Дойти до абсолютной точности — больше, наверное, ничего и не остается. Толстой принимает решение: с этого момента самым объективным образом записывать все, что происходит. И этот «дневник» — невероятно субъективный — по своему замыслу близок к тому, чем занимается камера Уорхола в мире чистого зрелища.
В точке сборки доныне существовавших реализмов находится нечто совершенно иное. Анализ исключений, переходных вариантов средств и теорий завел бы нас слишком далеко: чистая формула — большая редкость, однако существует доминирующая черта — на ней я и остановлюсь в дальнейшем. В данном случае, это, в первую очередь, самообман.
До сих пор мы действительно ходили вокруг да около реальности, обозначенной как цель в виде реализма — не отказываясь, при этом, от стремления подражать. Мы довольствовались такими упрощающими допущениями, условными определениями, которые должным образом соответствовали структурной гармонии художественного произведения, поддерживали запланированную целесообразность; пусть в реальности их не было и следа. А если и был, то заявляли его не как целесообразность, но как следствие непредвиденных жизненных обстоятельств и неоднозначности. Мы показали, что причины и доводы исчерпаемы, а быстрые предложения логики в качестве объяснения происходящего вполне удовлетворительны. Сегодня все это не может восприниматься даже как наивность. Тем не менее, вводит в заблуждение тот факт, что структура, устройство подобных произведений, так или иначе, отвечает — пусть и в меньшей степени — тому упрощению, согласно которому мы должны жить, чтобы достичь цели, уладить свои дела, убить соседа и т. д. Так мы и живем — насколько хватает привычки терпеть; однако искусство не есть самозащита. Мы, скорее, движемся в сторону бескровной вивисекции. В прошлом аналогичные устремления были направлены на то, чтобы оправдать изначально фиктивные правила игры: они субъективировали реальность так, будто, на самом деле, объективировали ее. Усеченную структуру выдавали за проработанную объективную структуру — так удобнее. В конечном счете, это в порядке вещей, до тех пор, пока мы не знаем большего. Не то, чтоб подозрение о существовании этого большего совсем уж отсутствовало; да только реалистическое сознание, привязанное к однозначной информации, было не в состоянии принять в себя это знание. Это измерение осталось вечной территорией идеализма; не случайно сегодня даже реализм умудряется регулярно подпитываться из этой традиции. Кто войдет в эти ворота так, как это сделает бальзаковский герой? Современник еще может почувствовать в нем полноту реальности — я же, скорее, способен увидеть в нем суверенность литературы. Наш реализм вынужден быть куда более абсурдным, нуминозным (эмоционально резонирующим), непредсказуемым и, что самое главное, открытым и непредвзятым. Он не может более «играть», иначе превратится в «базовый» реализм. Такой реализм может стать достоверным лишь шизофреническим образом: если сделает все для расширения и утончения подражания, и не будет стремиться приглушить реальность фиктивным приукрашиванием, ведь это можно сделать лишь ценой радикального вмешательства.
Все эти процессы вынуждают вымысел искать новые пути.
Мы свидетели размывания определенных схем в области художественного вымысла. Этот процесс, наверное, лучше проиллюстрировать на следующем примере.
Все возрастающее требование зафиксировать реальность непосредственно в момент осуществления характерно не только для классических жанров, оно вызывает к жизни и новые. Синема верите, прямое кино, репортаж, документальные тексты, записанные на магнитофон, фактический рассказ. Причина — помимо уже сказанного — может быть сведена к еще более простой формуле. Наплыв конкретной информации, естественным образом, придает всему конкретному чрезмерную значимость. В то же время, в противовес этой тенденции в различных жанрах набирают силу элементы гротеска, абсурда, притчевости, научной фантастики, и, с психологической точки зрения, ничего удивительного в подобном сдвиге нет. Серединный путь — «базовый» реализм и «базовый» вымысел — потерял свою значимость и привлекательность. Но, по сравнению с современным реализмом, куда больший интерес вызывает более сильный привкус сегодняшнего идеализма. Нередко в силу моды, но по очень понятным причинам. Он сигнализирует о нарастании наших эмоций, ведь именно увеличение способности немедленно фиксировать реальность делает более конкретным неопределенное и невозможное. И такие произведения реагируют на это более непосредственно.
Схемы вымысла и идеализмы прошлого отталкиваются от более умеренной, однозначной реальности и в состоянии цитировать ее, используя собственный формальный язык. Они рассчитывают на объяснение, так же, как и реализмы прошлого. Речь об уже упоминавшемся механизме «игры на вытеснение»: скажи мне, что ты представляешь, и я скажу, что ты можешь знать. Яркий пример — романтизм, который сумел противопоставить себя сенсуализму Просвещения, благодаря тому, что переместился вместе с последним в область вымысла и попытался сделать более однозначным все мистическое и иррациональное, используя чувственный, антропоморфный и гомоцентрический подход. Точно так же и новые схемы вымысла рифмуются с новыми требованиями реализма. Творцы — от Кафки до Беккета — не рассчитывают на однозначное объяснение (вариантов, конечно, великое множество). Собственная абсурдная сущность уже сама по себе кажется им достаточной, но и от конкретики они уже не хотят отказываться любой ценой, ведь она тоже не является однозначной, конкретной. Вымыслы продолжают нагнетать последствия нашего восприятия действительности, чтобы направить внимание на кажущееся окончательным отражение друг друга, на фиктивный характер доступной человеку объективности и на потенциальную объективность фикции.
Таким образом, реализм и идеализм странным образом сближаются, и, благодаря этому сближению, границы наших возможностей по фиксации реальности объективно становятся более регулируемыми. Однако эти границы приносят нам и новую, более широкую «свободу». Они обеспечивают умножающую саму себя неопределенность.
~
Какое все это имеет отношение к камере Уорхола? Попробуем представить себя на ее месте.
У нас нет точки зрения. Мы не знаем, что такое равновесие. Мы неподкупны. Любые детали равны для нас. Заботит нас лишь одно: что для выбранного куска реальности взять в качестве центральной точки, а что задвинуть к краю кадра. Этот отбор уже сам по себе — установка на пространство и масштаб, но, поскольку «тотальная камера», общий, лишенный центральной точки взгляд — это абсурд, мы спокойно можем его проигнорировать. Тем более что с подобных позиций мы можем зафиксировать все, что угодно.
Прямо-таки все? Камера Уорхола способна зафиксировать лишь внешнюю проекцию реальности. Изначально, по своим техническим параметрам, фильм, как движущаяся картинка, фиксирует отправную точку насущной реальности, чистую последовательность движений: все до единой фазы одноуровневых элементов, — вызывая определенное ощущение одновременности видимого. Коммуникационный звуковой мир, соответствующий тому же самому кусочку реальности — т. е. речь, разговор — по идее, может быть зафиксирован точно таким же образом, но и без связи со смыслом. Речь может стать понятной уже только во временном измерении выделенных, привилегированных элементов, в последовательном порядке, это должно быть нечто большее, чем шум. Зрелище, движение тоже есть последовательность элементов, но выделенного пространственного измерения уже достаточно, чтобы передать некое общее значение — для этого нет необходимости разрушать единообразие элементов. Воздействие фильма как «сна», по-видимому, связано именно с этим. Ненаправленный, непрерывный кадр — чистая проекция происходящей реальности; он уничтожает время. Подобное ощущение нам очень даже знакомо. Всем нам доводилось часами наблюдать за происходящим на улице, в парке, сидя у окна или на берегу моря. В таких ситуациях всегда возникает ощущение «сна» (слово «сон» следует понимать здесь исключительно как аттрибутив, а не в его психологической многослойности — т. е. на уровне «знаю и в то же время не знаю», «понимаю и все же не понимаю», «правда, и все-таки не правда», «верю и одновременно не верю»). Наши ассоциации и все, что можно высказать и назвать, словно бы уходит на задний план. Наше «я» все больше склонно принимать и замечать базовые элементы и воздействия безо всякого разбора, вместо того чтобы выделять и противопоставлять их, руководствуясь смыслом. На короткое время — насколько это возможно — мы превращаемся в камеру. Мы обретаем возможность заглянуть в такие глубинные механизмы происходящего на наших глазах, что из чувства самосохранения нередко останавливаемся, не решаясь погрузиться еще глубже, ведь у нас есть собственное «я», а все остальное — это «другое». Что будет, если мы вдруг потеряем свое «я»? Кто это заметит, на кого будет воздействовать «другое»? Реальность тоже исчезнет. Вот граница, где отождествление еще находится на том уровне, когда оно позволяет нам сознательно почувствовать процесс. Здесь неопределенность достигает в нас точки относительного покоя. Абсолютную однозначность мы можем испытать в том случае, если мир — это только «я» и мир, т. е. не «я мог бы быть», но «мы могли бы быть вместе». В таком же симбиозе существует и камера с видимым. И пространство «сна» дает отсюда импульс.
Но только импульс. Полная объективность остается вещью в себе. Сколько взглядов, столько и оттенков. Камера учит выходить за собственные границы. В пределах одного конкретного задания ей удалось достичь собственной суперобъктивности, и, при этом, она воплощает в реальность идею о том, что я могу осознать подобное сну влияние как необходимую составляющую явленной нам суперобъективности и конкретики как возможность эстетики нового типа. Не той и не такой, которая связана с обычным обращением внимания, чем-то особенным, примечательным, но с ситуацией магмообразной сути реальности, которая не в состоянии сама себе ответить. Мы потому и не можем ей противостоять (если и можем, то лишь ценой компромисса), что коммуникационная целесообразность заставляет нас формировать о ней мнение.
Суперконкретность и суперобъективность — это больше, нежели искусство может вынести? Вероятно. Но очевидно, что мы уже не очень-то в состоянии освободиться от желания получить новую эстетическую травму.
~
Камера Уорхола, по сути, предлагает два ключа для более глубокого понимания реальности. Нейтрализованное временное измерение стало уже общим местом; куда меньше говорят о равенстве элементов. (С радикальной последовательностью этим вопросом занимается додекафонизм). Однако, в случае с камерой, наверное, стоит кратко проанализировать и первый момент.
Время съедает любую объективность. А как же переживание и внутреннее осмысление—они, разве, не делают то же самое? Разница есть. Время, как оно есть, изначально помещает переживания в фиктивную систему. Переживание же, само по себе, непрерывно пытается объективировать время; в данном случае это равно отключению. Оно хочет принадлежать настоящему времени. Возвращение — и вообще, взгляд в прошлое и будущее — неизбежно фиктивно и имеет характер вмешательства. Ведь, строго говоря, речь должна была бы у нас идти о соседстве одинаковых одновременностей. Камера проделывает это в собственном узком мире видимого — потому-то она и становится такой безлично объективной. Мы боремся с «квадратностью» личной объективизации. Если нам хочется изобразить то, что есть, то, что происходит, более детально, чем раньше, мы должны подтвердить обезвременное мгновение, серию мгновений. Мир и жизнь не эпичны; это наше объяснительное упрощение помещает все в коммуникационную хронологию, чтобы навести «порядок» в одноуровневости, в сонной одновременности существования. Рассказ о каком-либо событии — на любом уровне — быстро превращается в дискурс. Появляется новый запрос на воспроизведение. И у фильма для этого более спонтанная природа, нежели у прозы. Кино приспособлено под время иначе, более правильным образом.
Киноязык как постоянная картина есть самый первичный наш механизм наблюдения и переживания, именно это и является причиной «варварской» притягательности кино (плохих фильмов это тоже касается). Но и камера Уорхола не может избежать создания новой среды, говоря словами Комолли, кинематографической перспективы, в которой относительно более объективное обретает фиктивную ауру, что отличает Уорхола от предшественников. Кадр, однако, и сам по себе менее критичен. Его невозможно вернуть в первоначальную среду (трехмерное решение — лишь еще более обманчивая киноперспектива) — но в качестве первичной формы наблюдения он все равно с легкостью вызывает впечатление, будто является максимально достижимой объективностью, даже будучи фиктивным. Таким образом, с помощью традиционной последовательности кадров сжимать время удобнее, чем последовательно выстроенными словами; просто потому, что это картинка, а значит — принадлежит настоящему времени. И в этом ее смысл. Главное, она похожа на сон, и это, как мы успели увидеть, может как раз означать близость более глубокой фиксации реальности.
Язык прозы, применительно к своим вариантам, не просто фиктивен как структура, но и требует больше времени. Если язык хочет дойти до значения, сначала он вынужден ссылаться на собственное содержание, и только потом, через денотат, непосредственно на предмет, а через предмет — на связи. (Если не брать пограничные случаи, когда язык восстает против собственного значения, фиктивной реальности посредством своей же фонетической конструкции). Последовательность слов, прежде всего, вынуждена вызывать картины. Понятие, мысль, чувство возникают из картины, точнее, вместе с ней, и это изначально предполагает некую «эпичность». Подобным образом дело обстоит даже с наименее шаблонными рядами слов. Из-за естественной силы тяжести, слово и фраза остаются пленниками временного измерения, вне зависимости от того, хотят они обрести смысл, или нет.
Время же — так или иначе — может быть нейтрализовано лишь частично. Где же искать лазейку? Мысль об одноуровневости элементов предлагает одно теоретически относительное решение — как для кино, так и для прозы. По сути, это вопрос намека, вмешательства извне.
На что намекает реальность, зафиксированная камерой Уорхола? Захочу — ни на что. Захочу — на многое. Но для искусства этой нулевой точки мало. Она интересна лишь как отправной пункт.
Глубинный смысл отсутствия точки зрения у до предела заведенного механизма состоит в том, что с тотальной «точки зрения» все элементы действительно равны между собой. Все для всего является причиной и следствием; равенство элементов — органическая необходимость. Оно практически уничтожает, размывает традиционные временные схемы и рамки — подчеркнутое сопоставление одного момента с другим; оправдывает бытование в настоящем в противовес эпическому. Любопытно, что механический прибор умеет признать это естественней, нежели человек. В этом смысле, он куда «божественней» любого из нас, только не осознает этого. Мы же слишком отягощены «сознанием» — именно поэтому и не можем выйти за пределы своего практического, рационального оценочного мира, не противопоставляя собственные качественные критерии — пусть и автоматически — органическому равенству. Мы не в состоянии примириться с тем, что внутри реальности, в целом, любое выделение условно, ведь рядом с ним одновременно может быть поставлен другой, такой же элемент, и это сосуществование условных акцентов формирует объективное равенство элементов. Так обстоят дела с присущим нам невыносимы сознанием собственного человеческого «я». Сознание это воздействует на нас не как система — система высшего порядка, — но, скорее, как мрачная картина упорядоченного хаоса. Но такова реальность, если принять во внимание всё, отключив метафизические проекции. Представим и такой поворот: я могу быть важнее камня, но, при этом, мы также можем быть с камнем равны. (Парадоксальным образом, это отнюдь не ставит под сомнение возможные метафизические проекции, но и не умаляет правду объективности, признанную нами выше).
Возможно, как раз это и есть новое отношение творца к произведению.
Мы знаем, намеков и подсказок извне не избежать. Всегда примешивается акцент, подгонка под конкретную цель и ситуацию — будь то реализм, или не реализм. Ясно одно: если мы исходим из равенства элементов, а не из системы изначально отобранных элементов, то можем обеспечить себе куда более непосредственную открытость, чем прежде. Это может стать территорией теоретически представимой суперобъективности (за которой вера ищет цель и однозначность) — да и для искусства, в конечном счете, не все равно, какую область объективности оно выбирает для гуманизации.
Насколько возможно, надо бы уравновесить безличную, лишенную точки зрения, уравнивающую силу камеры нашей личной заинтересованностью. И это обещает возникновение революционно нового симбиоза между человеком и миром, искусством и реальностью. «Захватить» и «привлечь» тем, что заметить как можно больше равных между собой элементов (пусть даже и обнаруженных прежде): чтобы, тем самым, личное стало объективным излишком объективного понимания. В любом случае, у нас стало бы меньше прав и возможностей заменять неопределенность неоправданной однозначностью.
Из более практического: следует доверять непосредственный отбор не конкретным указаниям выделенных оперативным способом элементов, но формулировать личное отношение, мнение, видение через порядок слов, комбинаторику отдельных равных между собой элементов. Указывать можно, но отождествляясь с элементами без выстраивания иерархии. Факты, равно как и наши переживания вспыхивают и гаснут в настоящем времени действия — так же обстоит дело и в реальности. Этого никогда не происходит в фальшивом настоящем прозы, в фиктивном и искусственном прошло-настоящем времени, с равенством, поставленным под сомнение.
Суммируя возможные модели: целью должна быть не ампутация воображения, но максимально активное встраивание изначального механизма реального «процесса становления» и действия — путем подражания или уподобления — в сотворенный мир.
Можно упомянуть еще один урок, более отвлеченный. Есть подозрение, что мы начнем считать тотальную фиксацию все более «снообразной» — возможно, как раз потому, что-то, с чем перед чем она нас ставит, это моносемия, и мы все менее в состоянии ее анализировать. Но эта однозначность уже выходит за границы искусства. Именно поэтому искусство, видимо, с таким энтузиазмом и защищает полисемию, ведь оно — подспудно — нападает на истинную многозначность, а не на моносемию, которая опирается на индивидуальные предпочтения. Искусство подспудно стремится к самоуничтожению. Волей-неволей камера Уорхола играет именно эту роль уже не или еще не искусства.
A tágasság iskolája. Szépirodalmi kiadó, Budapest, 1993
