Иштван Орос
Шахматы на острове
Перевод Вячеслава Середы
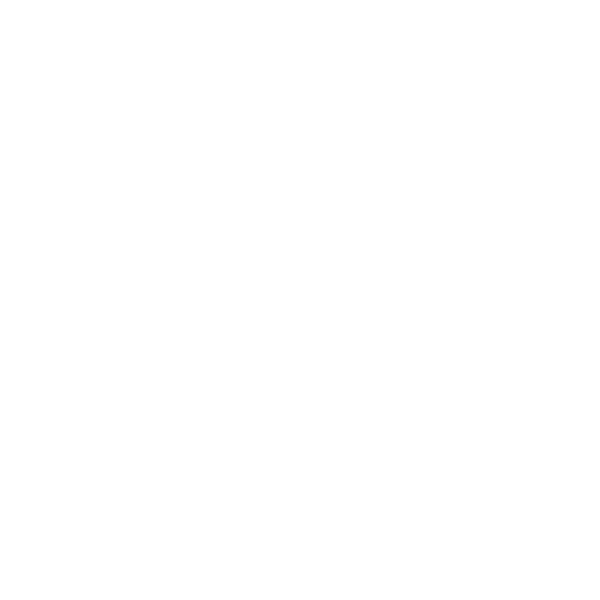
Иштван Орос
(род. 1951)
В апреле 1908 года на острове Капри Максим Горький устроил собрание, которое он назвал «литературным». Два самых важных гостя — одинаково претендующие на лидерство среди большевиков Александр Богданов и Владимир Ульянов — в свое время были друзьями, но в то время, когда разворачивается эта история, являются уже политическими противниками.
Нельзя не признать символичной шахматную партию, разыгранную ими на террасе горьковской виллы и запечатленную на фотоснимках, в том числе и на том, где усилиями ретушеров состав стоящих вокруг болельщиков при последующих публикациях постоянно менялся — в зависимости от того, кто оказывался недостойным находиться поблизости от вождя. Запись ходов этой партии сохранилась, но автор реконструирует также личный и политический поединок между двумя основными героями, равно как духовные течения кануна Первой мировой войны и много численные курьезы из истории шахмат и фотографии.
Иштван Орос, известный венгерский художник-график, режиссер анимационных фильмов, писатель, серьезнейшим образом исследует биографии основных героев и окружающих их зрителей (самого Горького, Марии Андреевой и всех остальных), сопровождая повествование обширным рядом архивных иллюстраций, в том числе раритетных.
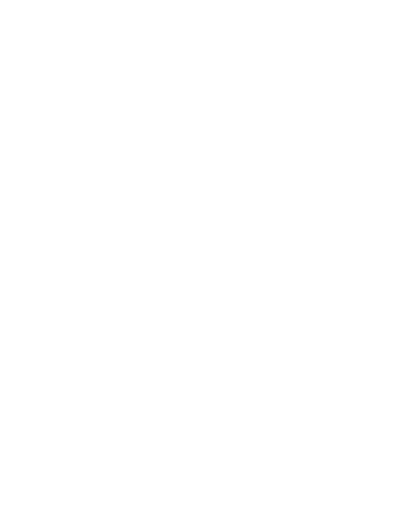
Иштван Орос
Шахматы на острове
Повесть о партии, повлиявшей на судьбы мира / Пер. с венг. В. Середы. — М.: Три квадрата, 2018. —232 с.
8 Даже если мы и не знаем, кто на вилле шпион (и есть ли он вообще), у нас все же есть некоторые представления о том, кто может стать шпионом, кто на это способен и годен, и признаемся откровенно, что фактически в каждом из обитающих на вилле революционеров, в их прошлом, в их характере и желаниях присутствует нечто, что делает их потенциальными доносчиками. Причем присутствует не особенно и таясь, но они будут последними, кто это заметит, кто сможет подумать подобное о себе. Доносчиками?! Да полно вам! Между тем все они прошли через царские тюрьмы, в каждом что-то сломалось, все пережили отчаяние после неудавшейся революции, всем знакомо безверие, чувство ненужности, всех накрыла волна подозрительности, зависти, склок, все привыкли прятаться, как кроты, под чужими фамилиями и даже придумали слово для этого образа жизни — подполье. У них есть свой особый язык, в котором слова означают не то, что они означают: лазарет — это тюрьма, экскурсия — ссылка, носовой платок — паспорт. Всех их мучит порой депрессия, угнетает тоска по дому, одиночество и угрызения совести: а так ли они распорядились ниспосланным им — подлинным или мнимым — талантом? Ибо каждый из них еще одержим тщеславием и болезненным самолюбием. Он думает, что оспособен на большее, что должен что-то переменить, чтобы жизнь перестала быть безвыходным тупиком. Вопрос о том, был ли на вилле шпион, наверное, можно поставить и так: будет ли там шпион? Такова уж природа шпиономании, что она подчас органично связана с актом шпионотворчества. Уже сами поиски приводят к тому, что рано или поздно шпион появляется. Ведь если его очень сильно искать, то кто-то им может стать. Нетрудно себе представить, что среди людей, которые постоянно следят друг за другом, подозревают в другом возможного стукача, кто-нибудь, нечаянно обнаружив в поведении ближнего нечто странное, нечто такое, чему не находится вразумительного объяснения, начинает шептаться о нем, возбуждать к нему недоверие, верить в его виновность и вскоре, просто из добрых своих побуждений, дабы предостеречь своих менее бдительных сотоварищей, берется не только за сбор, но и за измышление обличительных доказательств. И доносчик готов. Надо ли продолжать? Мнение хроникера о том, есть ли шпион, был ли, будет ли, в данном случае, пожалуй, не так и важно, ведь с точки зрения нашей истории вопрос стоит скорей так: кого может представить в роли шпиона Ленин. И способен ли Горький предположить подобное о ком-то из окружающих? Обладает ли он тем реле-узнавателем, тем постоянным природным свойством, которое с удивлением, восторгом и тревогой ощутит в себе его младший коллега по имени Солженицын: «Шли годы…, и всегда этот таинственный реле-узнаватель… срабатывал при виде человеческого лица, глаз, при первых звуках голоса — и открывал меня этому человеку нараспашку, или только на щелочку, или глухо закрывал… Ведь у того, кто взялся быть предателем, это явно всегда на лице, и в голосе, у иных как будто ловко-притворчиво — а нечисто». Похоже, реле-узнаватель у Горького не срабатывает. В той нарочитой небрежности, с которой писатель относится к этой теме, как будто есть нечто вызывающее. Можно подумать, он даже гордится, что за ним могут вообще шпионить. За ним и его гостями. За его окружением. В шпионаже он усматривает доказательство своей важности, и эта роль жертвы, дополняемая театральными приступами кашля, как нельзя лучше подходит к образу великого русского писателя. <…> Именно в этом, 1908-м, году вышла повесть «Шпион, или Жизнь ненужного человека». О литературных достоинствах этой книги мы сейчас говорить не будем, пусть занимаются этим критики и эстеты; разумеется, если кого-нибудь в наше время еще заботят подобные вещи, не говоря уж о том, что неясно, найдутся ли ныне желающие сдувать пыль с горьковских фолиантов. Но если таковые найдутся, то уже на первой странице «Шпиона» они обнаружат странное совпадение: героя, сироту Евсея Климкова, ставшего полицейским осведомителем, еще в детстве прозвали Стариком. Именно так. А в год публикации, летом 1908-го, к Горькому заявится один незнакомец и станет рассказывать ему об агенте охранки, который раскаялся под влиянием этой повести. Интересно, не сам ли незваный гость был тем «раскаявшимся агентом», и действительно ли он раскаялся? В одном из писем слова этого странного незнакомца Горький передает так: «Мы, русские, по натуре изменники. Революционеры служат шпионами, шпионы — в революционерах, разве так можно?».
Психология превращения человека в доносчика описана Горьким и в рассказе «Карамора». Герой этой, по сути своей, монодрамы, бывший агент царской охранки, в ожидании казни пишет отчет о своей деятельности и своей жизни. Причем написанная уже после революции 1917 года «Карамора» дает столь точный социальный, психологический и даже технический анализ превращения человека в предателя, что можно не сомневаться — тема эта волновала его давно, возможно, уже лет десять назад. Не исключено, что со времени того самого ленинского постскриптума.
Вмешаться в ход партии он не может, торопить Богданова, а тем более советовать ему, как ходить, было бы неприлично. Он чувствует, что ситуация напряжена до предела, и уже ломает голову над примирительными словами. Он вспоминает, как в красильной мастерской у дедушки подмастерья тоже играли в шахматы. Играли большими, потемневшими от времени бронзовыми фигурами. Полуслепой Григорий имел обыкновение надолго задумываться, и однажды, щипцами для снимания нагара, они раскалили на огне его королеву. Но тут как на грех вошел дедушка и, быстро взглянув на доску, сказал, куда надо сходить королевой, чтобы поставить мат. И не только сказал, но и показал. Счастье еще, что на улице лежал снег, в котором он держал обожженные пальцы, пока в кухне бабушка терла на терке сырой картофель. То-то шуму было! Но почему эта старая история явилась ему на ум именно теперь? Не из-за доносчика ли?! Идея была дяди Михаила, это он подучил маленького Сашку накалить фигуру. «Чья работа, басурмане?!» — кричал дедушка. «Это Сашка устроил», — сказал тогда дядя Михаил таким естественным голосом, каким можно говорить только правду.
43 Но, конечно, если уже сейчас в голове у Богданова бродят мысли о том, как можно будет живописать читающему потомству победу над Стариком, какие подобрать слова, сдержанные или нахальные, вести себя скромно или распушить хвост, ограничиться простой констатацией факта или дать все в подробностях, с художественным описанием окружения (все же Капри есть Капри), словом, если его голова занята такими вещами, то нечего удивляться, что он все еще не сходил. Он настолько пассивен, что эта его бездеятельность уже сказывается и на повествователе. Который хватается за всякого рода второстепенные темы, распутывает побочные нити и убаюкивает себя тем, что, в конце концов, он ведь занят делом, представляет читателю время, и почему-то так полагает, что его, в смысле — времени, в ту пору, сто лет назад, имелось «в распоряжении» гораздо больше, нежели теперь, и коль уж оно перед ним — полупрозрачное, нежно-голубое, недвижно-задумчивое, — то надо это необозримое время как-то представить, оформить, встроить в кристалл терпения, для чего как нельзя лучше подойдут длинные фразы и сложносочиненные конструкции, повторы и нагнетание синонимических тропов, возвращающиеся ритмы и репетитивные формы. Русское «сейчас», обломовское потягивание, грусть романсов и пассажи тоски. Эмигранты прекрасно знают, что над большими просторами время течет неспешней, они помнят, что дома, на родине, тени перемещались нерасторопней и ленивей смотрелись в текучие воды низкие облака. Казалось, время стояло на месте, а иногда, с точки зрения здешнего времени, даже поворачивало назад. Сделав петлю, оно обращалось вспять, как на русских иконах обращается вспять пространство, создавая обратную, по сравнению с принятой здесь, перспективу, когда стоящие у иконы верующие не созерцает ее, а позволяет иконе созерцать их и при этом испытывают такое чувство, будто взирает на них, поставленных в фокус ортогональных линий, не икона даже, в само Время, неощутимое и загадочное, восседающее на своем троне где-то вдали, по ту сторону этой жизни, в расширяющемся пространстве иного мира. Господи, помилуй, бормочут они, осеняя себя крестным знамением. Мелюзга, какая все это мелюзга, думает о них Ленин. «В России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга». Эту фразу он прочел в рассказе Чехова «Палата № 6», и с те пор она стала его любимым высказыванием: русский философ как мелюзга. Чеховский рассказ произвел на него сильное впечатление, о чем он признался своей сестре Анне: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате номер шесть». После столь долгого отсутствия любой эмигрант может перепутать покинутую отчизну с книжным шкафом, но для Ленина и при жизни на родине Россия была чем-то вроде кипы книг. Литературы, повествовавшей о том, что русский человек в принципе человек добрый и мудрый, красивый, святой, сострадательный, справедливый, а ежели не таков, то повинны в том обстоятельства. Ненавистные же обстоятельства эти выступали в виде то чужеземной культуры, то царской бюрократия, то закоснелой церкви, но институты эти не вечны, можно их изменить, и если изменится ужасающая действительность, то и жизнь сразу станет легче. Реальность, мир палаты № 6, Ленин знал только по книгам, правда, читал он повесть Чехова не один раз и даже в Куоккале, где Ал-Ал <Богданов> был еще его другом, расспрашивал его о медицинских подробностях. О препаратах, об инструментах и процедурах. Интересно, как он отреагировал бы, если б сейчас мы прощупали у него пульс. Если бы попросили Богданова перегнуться через столик и взять его за запястье, чтобы пропальпировать артерию. Если начнет вопить, то диагноз можно считать поставленным. Но Старик не вопит. В воспоминаниях, написанных после смерти Ленина, Горький упоминает этот эпизод: он играл с Богдановым в шахматы, проигрывал, злился, отчаивался, по-детски унывал. О воплях Горький не упоминает — как-никак пишет некролог. Вот если бы нам удалось каким-нибудь специальным раствором удалить из текста подобающую траурному моменту деликатность, то вполне вероятно, что жуткий татарский вопль разнесся бы эхом по всему острову.
Богданов некрологов не писал, но, как медик, делился своими воспоминаниями с Николаем Валентиновым (они беседовали в 1927 году, за год до смерти Богданова и эмиграции Валентинова). «Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, — говорил он своему собеседнику, — я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности».
Луначарский же некролог писал, но не все угодило в него. Например, он не стал писать, что Ленин, хоть и стократ победил Богданова в политических шахматах, не мог пережить то давнее поражение в настоящей игре. Умирающий Ленин (для себя записал Луначарский то, что ему рассказала Крупская), уже потерявший дар речи, но еще способный читать, иногда подчеркивал некоторые фамилии и требовал, чтобы его информировали, как ведут себя и что пишут носители этих фамилий. Помимо Аксельрода, Луначарский называет только Богданова. «Что, что?» — спрашивал он, стуча по бумаге костяшкой усохшего пальца. Что пишет Богданов? Что он делает? Что с Богдановым? Что?
