Жужа Раковски
ШВ
отрывок из романа
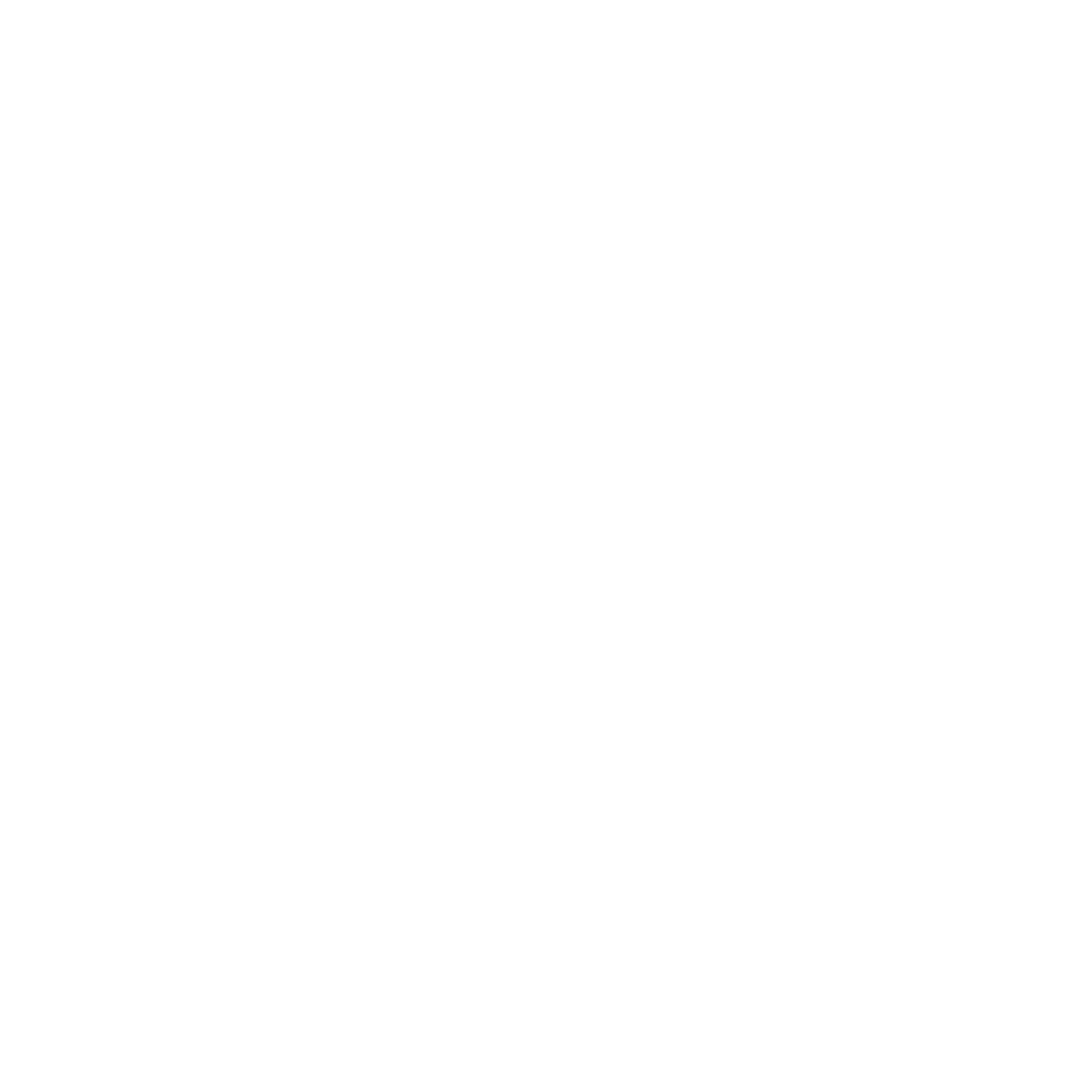
Шандор/Шаролта Ваи (1859−1918) — венгерский/ая поэт/есса и журналист/ка — в такие минуты яростно завидуешь финно-угорским языкам вообще и венгерскому в частности из-за отсутствия в них рода (да, да, так бывает и это здорово упрощает жизнь, особенно сегодня). Урожденная Шаролта Ваи, графиня, чьи предки служили венгерской и австрийской короне, а отец был генерал-полковником при Иосифе Австрийском, палатине Венгрии. Началось все с детства: в отчаянном желании родить наследника-мальчика (которому по наследству мог перейти титул), мать Шаролты скрыла от мужа пол ребенка и договорилась со священником, который окрестил новорожденную Шандором, хотя и записал Шаролтой. Эта двойственность сопровождала героя/героиню романа Жужи Раковски всю жизнь. В 16 лет Ваи начала печатать стихи под своим женским именем, однако журналистские тексты в прозе стала публиковать под мужскими псевдонимами — если женщины могли работать только в женских журналах, у мужчин карьерных возможностей в прессе было значительно больше. Начиная с 1880 г. теперь уже Шандор Ваи сотрудничал с целым рядом газет и вел образ жизни, типичный для мужчины того времени: много путешествовал, посещал питейные заведения, участвовал в дуэлях (в том числе стрелялся за актрису Мари Хедеши), заработав репутацию бонвивана и любителя ночной жизни, а в 1883 г. женился на актрисе Эмме Эсеки и поселился в Пеште, но спустя четыре года в австрийском Клагенфурте познакомился с молодой учительницей Мари Энгельхардт и, заплатив Эсеки изрядные отступные, женился на Мари, сбежав с ней против воли родителей девушки. Финансовые затруднения заставили Ваи обратиться за помощью к тестю, у которого он занял денег под предлогом устройства на работу, но тесть заподозрил неладное и обратился в полицию, и графа арестовали по подозрению в мошенничестве. В ходе следствия Ваи находился в тюрьме, где выяснилось, что биологически он женщина. На слушания, где многочисленные свидетели показали, что подсудимый вел себя как мужчина (жена, кстати, тоже была абсолютно уверена, что замужем за мужчиной), вызвали даже акушерку, принимавшую роды у матери Ваи. Обследовавшие Ваи врачи постановили, что граф/графиня страдает формой сексуальной инверсии (как с 1880-х гг. до начала ХХ века принято было обозначать однополую сексуальность, хотя ряд ученых разделяли «инверсию» и «гомосексуальность»), суд его/ее оправдал и отпустил на свободу — что удивительно, без обязательств «вернуться к своему истинному полу». В этой истории отдельного внимания заслуживает и позиция клагенфуртского врача Бирнбахера: тесть Ваи, недовольный вердиктом, подал апелляцию, и медицинскую часть дела отправили на повторную экспертизу в Венский университет знаменитому Теодору Мейнерту (у него в свое время учились Фрейд и Сербский), и тот заключил, что Ваи, будучи анатомически и психически женщиной попросту «обдурил» двух провинциальных врачей, на что Бирнбахер пространно и убедительно возразил, считая мужские особенности поведения Ваи неотъемлемой частью его личности. После окончания судебного разбирательства Ваи вернулся в Будапешт и продолжил работу в различных изданиях как уже опытный и известный журналист. Текстов, написанных им за первые десять лет ХХ века хватило для 15 сборников. Параллельно Ваи попытался заняться бизнесом — начал торговать кофе и прочими колониальными товарами в Риеке (с 1870 по 1919 гг. этот город был единственным выходом Венгрии к морю), однако деловая карьера так и не задалась. В 1910 г. граф переехал в Швейцарию, откуда продолжал слать рассказы для воскресного приложения к газете «Пешти хирлап», там же в Швейцарии Ваи и умер в марте 1918 г. В венгерских некрологах его называли «венгерской Жорж Санд».
Дело Ваи оказало серьезное влияние и на судебную, и на медицинскую практику в отношении женщин-лесбиянок, о нем писали крупнейшие психиатры и сексологи Рихард фон Крафт-Эбинг и Эллис Хэвлок. Оно же заложило целый ряд культурных стереотипов в отношении женщин с подобным типом сексуальности. Симона де Бовуар использовала историю Ваи в своем труде «Второй пол».
В Венгрии фигура Ваи, безусловно, привлекала к себе внимание многих авторов — в 1970-е гг. выдающийся поэт и драматург, автор литературных мистификаций Шандор Вёреш написал о нем пьесу, но опубликовать так и не смог. В начале 2000-х гг. интерес к Ваи возобновился: были опубликованы прежде не печатавшиеся тексты журналиста, о Ваи стали много писать историки и активисты/активистки, появилось множество статей и в академических журналах (особенно в австрийских и американских).
В 2011 г. в издательстве «Магвете» вышел роман Жужи Раковски «ВШ», где невероятную историю Шаролты/Шандора Ваи рассказывает он/а сам/а (в дневнике, сконструированном Раковски на основе рассказов писателя Дюлы Круди, современника Ваи, трудов современной специалистки по гендерным исследованиям Анны Боргош, автобиографии Ваи и отчетов полицейского психиатра доктора Бирнбахера).
Стихи Ваи — мистификация самой Жужи Раковски.
ШВ
Перевод Оксаны Якименко
Перевод стихотворений Дарьи Анисимовой
Перевод стихотворений Дарьи Анисимовой
1 ноября 1889 года
Ужас… Ужас… Господи, дай мне умереть прямо сейчас, в эту минуту! Ужас. Я этого не вынесу!
2 ноября
Попросил, чтобы отдали мне хотя бы портмоне и обручальное кольцо, но они в ответ только отрицательно покачали головами. Умолял отдать и книгу; если мне еще долго придется целыми днями таращиться на голые стены, я тут точно потеряю рассудок. Тут же несут обед; вчера был тощий суп из капусты с двумя кусками черного хлеба. Я даже не притронулся; они ничего не сказали, когда увидели, что я не съел ни ложки, только покачали головами и забрали поднос.
4 ноября
Вчера, после долгих просьб дали бумагу и чем писать (до этого писал на обратной стороне использованного конверта). Ночи тяжелее всего: уже четвертую ночь подряд не смыкаю глаз, только лежу в темноте, беззащитный перед наплывающими в памяти картинами. Сегодня ночью даже написал два стихотворения: возня с рифмами и слогами немного облегчила муки неволи. Вот эти два стихотворения:
Ночные мысли
Во мраке горя, во вселенной
Жизнь растворилась навсегда.
Сквозь прутья камеры тюремной*
Ко мне в окно глядит звезда.
Жизнь растворилась навсегда.
Сквозь прутья камеры тюремной*
Ко мне в окно глядит звезда.
* На самом деле из окна видно вовсе и не небо, а кирпичная стена соседнего здания!
В мгле страдания** я слышу
Его предвечные шаги***,
Ты нежный, ты покоем дышишь,
Мой светлый ангел, помоги!
Его предвечные шаги***,
Ты нежный, ты покоем дышишь,
Мой светлый ангел, помоги!
** Камера у меня, надо признаться, на втором этаже, но душою я в бездне! Глубже не упадешь!
*** Их тут двое: один дружелюбный, усатый с лицом, похожим на кусок теста, и второй — долговязый, со впалым лицом, блеклыми волосами и выцветшими голубыми глазами, в которых я никакие чувства различить не в состоянии.
*** Их тут двое: один дружелюбный, усатый с лицом, похожим на кусок теста, и второй — долговязый, со впалым лицом, блеклыми волосами и выцветшими голубыми глазами, в которых я никакие чувства различить не в состоянии.
Где ты теперь? Молчишь, вздыхаешь
В неверном свете ночника,
Глаз до рассвета не смыкая,
Так бесконечно далека.
В неверном свете ночника,
Глаз до рассвета не смыкая,
Так бесконечно далека.
Парчой узорчатой одета****,
Лежишь, как в тот, последний раз,
В глазах пылают блики света,
Ответь, ты думаешь о нас?
Лежишь, как в тот, последний раз,
В глазах пылают блики света,
Ответь, ты думаешь о нас?
**** По правде говоря, она вышивала кармашек для щетки, который на стену вешают; но это слишком уж будничный предмет, по-моему, воспевать это в стихах не стоит.
Не надо, не смотри так грозно,
Руки движение — и вдруг
Струятся всполохи, как слезы,
И пламя плещется вокруг.
Руки движение — и вдруг
Струятся всполохи, как слезы,
И пламя плещется вокруг.
А я от боли корчусь, сидя
На койке в камере сырой.
Никто живой меня не видит,
Лишь крысы алчные порой*****.
На койке в камере сырой.
Никто живой меня не видит,
Лишь крысы алчные порой*****.
***** На самом деле камера для подследственных очень даже чистая и опрятная, по крайней мере, до сих пор не попадались ни крысы, ни пауки, ни прочие неотъемлемые атрибуты тюрьмы, если судить по тюремной литературе. Ситуация явно поменяется, когда я попаду туда, где сидят уже осужденные!
Тускнеют звезды, полночь скоро,
Слетает с башни гулкий звон
И снова засыпает город
Предвечным мраком окружен.
Слетает с башни гулкий звон
И снова засыпает город
Предвечным мраком окружен.
Душа на миг покинет тело
И невесомая, как дым,
Летит задумчиво и смело
Над спящим городом моим.
И невесомая, как дым,
Летит задумчиво и смело
Над спящим городом моим.
Несчастная душа нагая!
Укрой туман ее в пути,
Границы яви раздвигая,
Тебя пытается найти.
Укрой туман ее в пути,
Границы яви раздвигая,
Тебя пытается найти.
Окно приветное закрыто,
Ты спишь, любимая, одна,
В укромной комнате разлито
Сплетенье мыла и вина
Ты спишь, любимая, одна,
В укромной комнате разлито
Сплетенье мыла и вина
Негромкий стук раздастся в ставни
Окна средь гулкой пустоты.
— За ним когда-то мы мечтали
О лучшей жизни, я и ты.
Окна средь гулкой пустоты.
— За ним когда-то мы мечтали
О лучшей жизни, я и ты.
О, не пугайся, я не птица,
В порыве страха не кричи,
Одна душа моя стремится
Былое отыскать в ночи.
В порыве страха не кричи,
Одна душа моя стремится
Былое отыскать в ночи.
Открой окно, согрей мне душу
Пускай на миг, побудь со мной,
И ороси свою подушку
Слезой печальной и земной!
Пускай на миг, побудь со мной,
И ороси свою подушку
Слезой печальной и земной!
К судьям
Душа моя томится
Надеждой и тоской,
Я заключен в темницу,
Я раб — я червь мирской.
Надеждой и тоской,
Я заключен в темницу,
Я раб — я червь мирской.
В цепях, в тюремной робе*
Без ночи и без дня,
Когда темней надгробий
Сны мучают меня.
Без ночи и без дня,
Когда темней надгробий
Сны мучают меня.
* Прямо уж кандалы на меня не надевали, но тюремная роба! Ненавистное, мерзкое одеяние вызывает во мне чувство, будто мою душу пытаются впихнуть в чужое тело! Сколько я ни умолял отдать мне хотя бы рубашку, но они все только отрицательно качают головами!
Снаружи зелень лета**
И торжество, и пыл.
В толпе, лучом согретой,
Я прежде с вами был.
И торжество, и пыл.
В толпе, лучом согретой,
Я прежде с вами был.
** По правде говоря, сейчас уже ноябрь. Но контраст сверкающего солнечного света и темной камеры более эмоционально выражает разницу между счастливцами на свободе и унылой долей бедного узника, потому я в стихотворении написал про летнее солнце.
В изысканных нарядах
Гулял я среди вас
Презренье мне в награду,
Пока не пробил час.
Гулял я среди вас
Презренье мне в награду,
Пока не пробил час.
Забыт, покрыт позором,
Тюрьма навек мне дом
И я предстану скоро
Пред пламенным судом.
Тюрьма навек мне дом
И я предстану скоро
Пред пламенным судом.
И вот, с презреньем скрытым
На палачей гляжу,
Нет у меня защиты,
Я слово сам скажу.
На палачей гляжу,
Нет у меня защиты,
Я слово сам скажу.
Властительные судьи,
Немой присяжных круг
Пусть вы вершите судьбы
Всего и всех вокруг,
Немой присяжных круг
Пусть вы вершите судьбы
Всего и всех вокруг,
Но я меж ними лишний
И оттого пленен,
Прописан мне Всевышним
В душе иной закон,
И оттого пленен,
Прописан мне Всевышним
В душе иной закон,
Его легко вложила
Небесная рука,
Она ведет светила,
Свивает облака,
Небесная рука,
Она ведет светила,
Свивает облака,
И, драгоценным даром
Разумных наделив,
Она велела пару
Искать, пока ты жив.
Разумных наделив,
Она велела пару
Искать, пока ты жив.
Я исходил полсвета
Терзаясь и страшась,
И вот обрел планету,
Которой имя страсть.
Терзаясь и страшась,
И вот обрел планету,
Которой имя страсть.
Теплом ее сраженный,
Я стал счастливей всех,
Последовал закону,
Лишь в этом был мой грех!
Я стал счастливей всех,
Последовал закону,
Лишь в этом был мой грех!
Прощенья мне не будет,
Но об одном молю,
Не забывайте, люди,
Про молодость свою,
Но об одном молю,
Не забывайте, люди,
Про молодость свою,
Про боль прикосновенья
И тот прекрасный миг,
Когда в одном движенье
Судьба ведет двоих.
И тот прекрасный миг,
Когда в одном движенье
Судьба ведет двоих.
И счастье полной грудью,
И стонут небеса.
Как вдруг прикроют судьи
Суровые глаза,
И стонут небеса.
Как вдруг прикроют судьи
Суровые глаза,
И память бликом скорым
Их озарит умы,
Тогда падут затворы
Немой моей тюрьмы!
Их озарит умы,
Тогда падут затворы
Немой моей тюрьмы!
Сегодня меня водили в кабинет к следователю. В стихотворении я назвал его суровым, на самом деле это энергичный в движениях, обаятельный мужчина с ясным взглядом, довольно молодой еще. Безупречная рубашка, запонки блестят, и вся его добродушно-ироничная, доброжелательная манера выдает человека, который живет в полной гармонии и с собой, и с миром. Пока я сидел там напротив него — а он предложил мне стул и даже угостил сигарой, и со скучающим дружеским превосходством кивнул приведшему меня надзирателю, чтобы тот подождал снаружи, — у меня на миг сверкнула надежда: вот же, подумал я, вот же попался мне и здесь человек с острым умом и глазом, с широким кругозором, образованный. с которым я могу говорить открыто, и который сам видит, как со мной несправедливо обошлись! От этой мысли меня охватило горячая симпатия, и я уже не стыдился так своего убого арестантского вида — коротко обрезанных волос, выцветшей от грубой стирки казенной робы — мои-то вещи забрали! — и стыда и убогости всей своей жизни… от меня, небось, еще и воняет, пронеслось в мозгу, ведь со дня той ужасной первой попытки помыться, надзиратели не заставляли так уж тщательно соблюдать чистоту — я только плескал в лицо и на шею немного воды из таза для умывания, да ополаскивал рот из покоцанной жестяной кружки, а потом сплевывал в тот же таз, и вот же, думал я, все-таки сижу тут напротив другого человека, точно мы с ним старые товарищи, он мне еще и прикурить дает — рука у него ухоженная, ногти аккуратно подстрижены, пахнет приятно, я-то свои ногти в волнениях последних дней до корней сгрыз, даже кожу пообкусывал у ногтевого ложа — и с улыбкой смотрит, как я закуриваю.
— И что прикажете с вами делать! — начал он со все тем же безмятежным, немного ироничным выражением на лице и покачал головой. — Да, задали вы нам урок!
— Что бы я ни натворил, — воскликнул я взволнованно, будучи близок к тому, чтобы расплакаться, — руководствовался я самыми что ни на есть чистейшими помыслами! В этом смысле я никогда никого не обманывал… в особенности мою обожаемую супругу!
При слове «супруга» следователь слегка улыбнулся.
— Вы меня неверно поняли… в том деле, о котором вы думаете, вам придется самому разбираться и с семьей упомянутой дамы, и с собственной совестью! Вы здесь сейчас не по этой причине, а в связи с определенными суммами, которые были вами получены от господина Энгельхардта…
— Тесть мой, — перебил я, — человек подозрительный и мелочный! Сумму эту я ему выплачу! У меня есть поместья в Венгрии… Я обращу их в деньги — это всего лишь вопрос времени. Прошу вас! Меня шантажируют! — почти прокричал я, возбужденный таким поворотом, на глаза навернулись слезы.
Следователь вновь сочувственно покачал головой, но во взгляде его все равно читалось некоторое осуждение:
— Да, да, — кивнул он в задумчивости, взял со стола перо с позолоченным наконечником и рассеянно принялся процарапывать им столешницу, — одним словом, шантажируют? Простите, но в вашем положении… это, по сути, неизбежно. Хотя об этом в другой раз, — добавил он, заметив, как у меня болезненно дернулось лицо. — Ваш случай, признаем это, в высшей степени исключителен, и ссудная операция, составляющая предмет обвинения, на самом деле, — лишь незначительная составляющая всего дела. В свете же того, что… как бы это получше сказать… вышло на поверхность, тут могут возникнуть и более серьезные моменты: умышленное введение в заблуждение в мошеннических целях, подделка документов и прочее в этом роде… Желаете дать подробные признательные показания прямо сейчас? — следователь посмотрел на меня уже без улыбки, но в его строгом взгляде будто бы все равно промелькнула задорная насмешка. Это придало мне немного храбрости — значит, сам он меня не осуждает, просто в силу служебных обязанностей вынужден обращаться со мной по всей строгости закона!
— Я сначала хотел бы поговорить со своим адвокатом… мои родные уже предприняли необходимые шаги, обратились к доктору Х. с просьбой представлять меня в суде, — запинаясь, пробормотал я.
Следователь пожал плечами.
— Как скажете! А что, если вы до встречи с ним все-таки напишете все, что, по вашему мнению, может оказаться важным с точки зрения вашего дела? — на этой фразе глаза у него загорелись как у человека, который вдруг нашел решение для сложного и крайне щекотливого вопроса, — это и адвокату вашему было бы в помощь, он ведь, если правильно понимаю, лишь временно находится в Клагенфурте. Надеюсь, нам с вами удалось договориться… господин граф! — добавил он с дружелюбной, чуть ли не заговорщической улыбкой, и на этих словах надзиратель, на этот раз уже усатый, с лицом, похожим на кусок теста, вошел (следователь позвонил) и, схватив меня за плечо, повел к выходу. Я последовал за ним, но в дверях обернулся:
— Прошу вас! — вырвалось у меня. — Могу ли я получить обратно свою одежду — то, в чем меня привезли? В конце концов мне же еще не вынесли приговор! Эта роба для меня унизительна… ужасно унизительна! — тяжело выдохнул я и правой рукой, точно в беспамятстве, вцепился в жалкие казенные лохмотья, а левой попытался досадливо стряхнуть руку надзирателя, но тот не отпускал и силой пытался вытолкать меня в коридор.
— Попросил бы не устраивать тут скандал! — недовольно повысил голос следователь, но сам при этом глазами велел надзирателю отпустить меня. — Я еще подумаю, что могу сделать для вас, — добавил он уже помягче, но взгляд его и движения были столь решительны, что я был вынужден смириться: беседа наша завершилась, буду сопротивляться дальше, могу и вовсе потерять его расположение. Прежде чем за мной и надзирателем закрылась дверь, я успел услышать, как следователь раздраженно и обеспокоенно вздохнул.
Сегодня должен приехать мой адвокат. (Хотя у меня мелькала мысль самому представить свое дело перед судом, более опытные благожелатели — есть ли у меня такие вообще? — всеми силами меня от этого отговаривали, доводы сердца, убеждали они, часто не способны противостоять аргументам сурового и не знающего жалости закона!) Адвокат уведомил меня о своем приезде коротким письмом, в котором подтверждал получение моего письма и сообщал, что приложит все усилия к тому, чтобы ознакомиться с моим делом за короткое время, оставшееся до отъезда. Я, правда, боялся, что он не возьмется, человек он изрядно занятой — лучший адвокат в Пеште на сегодняшний день! — но друзья мои, по-видимому, за меня похлопотали. Или же его привлекла публичность, связанная с моим делом? Ведь и он, кого стремится заполучить для своих целей столько народу, нуждается в рекламе, в той шумихе, которую газеты со всей вероятностью поднимут вокруг моего дела? Или он взялся за мой случай из простого человеческого любопытства? А не то и из сочувствия?
Все утро буквально сгорал от нетерпения. Пытался читать книгу, которую мне передал… и, «Золотого человека» великого нашего Йокаи, но чтение не шло — какой у него блистательный мир, даже грех и провал у него выше и благороднее, чем в нашем темном и безжалостном мире! И где, где найти в этом реальном мире такой Ничейный остров, где истерзанная душа, уставшая от притворства и двойной жизни, смогла бы стать собой на свободе? Нет уж, эти романтичные и обманчивые картины не в состоянии сейчас завлечь меня, мне бы что помрачнее, побезжалостней, поближе к моему нынешнему положению — с такой книгой мне, наверное, легче было бы скоротать часы ожидания.
А так я просто глядел в потолок и ходил по камере из угла в угол, прочитывал пару строк и снова отбрасывал книгу в сторону. В этом состоянии меня и застала новость, телеграмма господина Х., в которой он сообщал, что приехать не сможет, доберется только на следующей неделе, мол, его задерживает в Пеште какое-то текущее тело. Признаюсь, когда надзиратель протянул мне телеграмму — на этот раз не добродушный усач, а тот, другой с холодными, бледно-голубыми глазами, — я, как бы это ни было стыдно, бросился на свое убогое ложе и закрыв лицо руками разрыдался. Какое мне уже дело до того, что за мной в такую минуту наблюдают безучастные глаза, да и о каком стыде может идти речь в свете последних событий? В порыве мазохизма я, возможно, даже немного преувеличил свое отчаяние, пусть этот, с холодными глазами, еще больше будет меня презирать — надзиратель стоял над моей койкой, точно воплощение всего безучастного человечества и молча наблюдал мои муки. Я ждал, что он скажет что-нибудь, но нет — постоял пару минут, и я услышал, как за ним захлопнулась дверь.
Нынче ночью во сне повторилась та жуткая сцена — полумрак, поднимающийся пар, в облаке пара колышутся равнодушные, безучастные лица, сильные руки держат меня за запястья, я извиваюсь, пытаюсь вырваться, мечусь из стороны в сторону, точно змея под каблуком сапога, и, в то же время, унизительное, отвратительное желание в самых потаенных уголках моего тела, когда я вдруг осознаю, что все напрасно, что еще одна минута — и вся моя прежняя жизнь разрушится. Кошмарное видение, но ни в какое сравнение не идет с тем ужасом, который я испытываю от снов об утраченном счастье.
Фото: Fortepan / Fekete Bernadette
