Ласло Чабаи
Синдбад
Перевод Оксаны Якименко
Синдбад – главный герой одноименного цикла новелл (2010) и романа венгерского писателя Ласло Чабаи «Синдбад в Сибири» (2013)
Автор, подчеркивает, что дал венгерскому сыщику экзотическое имя-прозвище, потому что его герой провел детство в Багдаде, где его отец работал врачом при дворе местного правителя, но для тех, кто знаком с венгерской литературой, это имя в первую очередь связано со знаменитым героем рассказов и романов одного из крупнейших венгерских писателей первой половины ХХ века Дюлы Круди (российская публика, скорее, знакома с экранизацией того, первого «Синдбада» с непревзойденным Золтаном Латиновичем в главной роли). Как и его популярный предшественник (не бывший, впрочем, детективом), герой Чабаи ощущает себя вечным путешественником, периодически возвращаясь к детским багдадским воспоминаниям и в какой-то момент, пусть и не по своей воле, оказываясь в далекой Сибири. Параллель с фильмом Хусарика оправдывает и своеобразная манера изложения: все, что происходит с детективом «сейчас» описывается в настоящем времени, более привычное для нарратива прошедшее появляется только в багдадских воспоминаниях, как флэшбэки в кино. Цикл детективных рассказов, объединенных фигурой «суперсыщика» Синдбада – одна из немногих удачных попыток в этом жанре в современной венгерской литературе. Сам по себе детективный сюжет в этих рассказах не является главным, автор, скорее, стремится воссоздать в воображении читателя мир провинциальной Венгрии, какой она была в 1920-1930-е годы – с тяжелым наследием Первой мировой и гнетущим предчувствием Второй.
Российская публика, скорее, знакома с экранизацией того, первого «Синдбада» с непревзойденным Золтаном Латиновичем в главной роли.
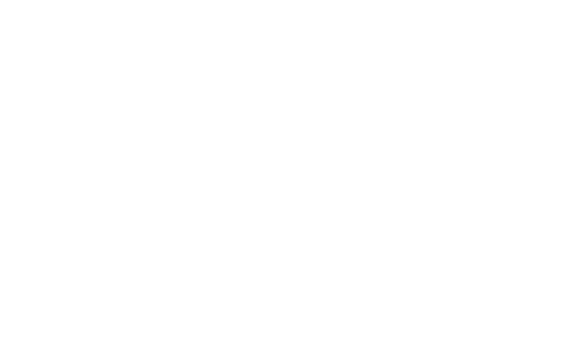
10
(чужое пальто)
— Будь вы по-настоящему знакомы с Нярлигетом, вы бы знали: дома по Шелковой, Оленьей и Сердечной улице скрывают не только украденные завещания и имена настоящих отцов младших детей, но и прелестных, образованных и к тому же небедных барышень, которые удаляются — летом на террасу, в холода — в зимний сад под предлогом, будто им срочно надо почитать исторический роман, или вздыхая жалуются на головную боль, а сами ждут, когда же хоть кто-нибудь позовет их замуж. Барышни эти все больше блондинки, носят жоржет коричного оттенка… Кстати! Вы заметили, сколько в Нярлигете блондинок? Словачки — понятное дело, потому что славянки, насчет швабских девушек — тех, что с Напкора, Ракамаса, да с Гавы сюда переселились, — тоже удивляться нечему, немки все-таки, но даже еврейки светловолосые попадаются. В толк не возьму, отчего, может, на них с остальных перекинулось…
— Могу поверить! — перебивает Синдбада Эрнё Шульц, он же Шульцер, канцелярист, недавно уволенный из городской мэрии (после третьей кружки темного крепкого — вроде того, что варят на дрехеровских заводах — сыщик вдруг настроился на неожиданно лирический лад). Сам Шульцер уже пьет десятую. — Явно ждут кого-то, да только я в их глазах никто, и навсегда останусь никем, тем более, если завтра меня отправят за решетку!
— Назначили, выходит, слушание. Быстро они, — реагирует детектив, но к удовлетворенности работой коллег тут же примешивается жалость. Синдбад старается скрывать это при посторонних, но к тем, кто преступил закон, он испытывает сострадание, если они, конечно, не закоренелые преступники. — Адвоката выбирайте из «середнячков», слишком дешевый провалит дело, а дороже платить — деньги на ветер бросать! — советует он Шульцеру, но тот стучит кружкой по столу.
— Да только я невиновен!!! Не-ви-но-вен!!! — на крик оборачиваются все посетители ресторана Обештер.
Если Синдбад чего и не любит, так это слишком бурного выражения чувств у подозреваемых. Кроме всего прочего, следствие — а длилось оно всего один день — вел лейтенант Чонка, с которым у него как раз натянутые отношения, так что вмешиваться в это дело ему не стоит. Шульцер тем временем успокаивается, опять начинает сетовать, вызывая у Синдбада очередной приступ жалости.
— Сглупил, признаю, но это ж на минутку всего. А в чем меня обвиняют — в том не виновен…
За годы, проведенные в полиции, Синдбад успел заметить: ошибочно полагать, будто все подозреваемые упирают на свою невиновность. Серьезные преступники все больше молчат и пожимают плечами.
— Тогда вам нечего бояться суда… — детектив утешает собеседника, но в глаза не смотрит, знает — все не так просто.
— Куда там! У меня даже на распоследнего адвокатишку денег нет, самому придется себя защищать. Сколько бы я доказательств ни приводил, какая-нибудь акула судейская…
— Стоп! — прерывает его Синдбад. — Значит, доказательства все-таки имеются?
Шульцер вытирает рот, дожидается перерыва между приступами икоты, чтобы всякая ерунда не помешала сделать важное заявление, и, сдерживая пыл, но вполне искренне начинает:
— У моей невиновности есть целый ряд доказательств. Во-первых, я не преступный элемент. И вся моя карьера тому свидетельство! За вычетом одного должностного проступка, двух эпизодов неподчинения начальству и нескольких случаев нарушения общественного порядка вследствие употребления алкоголя, резюме у меня безупречное, чистое, как снег!
По тому, как детектив морщит губу, прячась за кружкой, его собеседник понимает, что приведенные факты на Синдбада не действуют, и собирает силы для решающего довода:
— Кроме всего прочего первичная моя интенция тоже была ложной…
— Человеческим языком объясните! И начните с самого начала! Насколько мне известно, вы нанесли ущерб Лефковичу.
Шульцер покаянно вздыхает, точно голодный ребенок, которого застукали за кражей банки с вареньем.
— Было дело. Такие обстоятельства были с этим связаны… короче говоря, я был на краю пропасти — да я и сейчас там, — и в отчаянии не нашел другого выхода.
— То есть, подрезали из кассы три тысячи пенгё.
— Все так. Правда, не из кассы, а из коробки из-под обуви производства «Батя», она на прилавке стояла, и не деньги, а ваучер, субсидия на три тысячи пенгё. Мы же еще саженцами торгуем.
— То есть, подрезали из кассы три тысячи пенгё.
— Все так. Правда, не из кассы, а из коробки из-под обуви производства «Батя», она на прилавке стояла, и не деньги, а ваучер, субсидия на три тысячи пенгё. Мы же еще саженцами торгуем.
Синдбад читал, как столичные министры придумали, будто нищету в восточных районах страны можно победить, если разводить яблоки. «Убедить людей, привыкших к лапше да кукурузной каше, высаживать яблони, когда они эти свои два жалких хольда с таким трудом отвоевали и не успокоятся, пока на чердаке кукурузы и пшеницы не будет столько, чтобы дотянуть до нового урожая. Яблоки? Да тут веками больше одной яблони во дворе не сажают — и ту в дальнем углу сада, чтобы детям на рождество было что в подарки положить. Яблоками сыт не будешь. Да и первого приличного урожая раньше, чем через пять-шесть лет ждать нечего, а до тех пор чем питаться? Ничего их этого не выйдет! Мертворожденная идея!» — такое у народа мнение.
— А что, у вас хозяйство?
— Ваучер можно толкнуть на черном рынке в любой момент, минус десять процентов. Их хоть и распределяют через мэрию по министерским спискам, но номера фиксировать не надо, да и незачем, ведь… ведь господин Пошта и так бы их принял…
— То есть, тут еще и карты замешаны.
— Ваучер можно толкнуть на черном рынке в любой момент, минус десять процентов. Их хоть и распределяют через мэрию по министерским спискам, но номера фиксировать не надо, да и незачем, ведь… ведь господин Пошта и так бы их принял…
— То есть, тут еще и карты замешаны.
— Они самые. Господа Пошта, Коперташ и Брифман, — Синдбаду эти фамилии знакомы по материалам дела. — Каждый день они заходят в Корону раскатать партию. Видать, мой ангел хранитель и отвернулся от меня, когда я сел с ними в Ульти* играть. Эта троица навесила на меня огромный долг. Половина каждого моего выигрыша уходит на его возмещение. Но отцовское наследство захапать не позволю! — Шульцер ждет от Синдбада понимающего кивка.
* Популярная в Венгрии карточная игра т.н. «немецкого типа».
— Бывали у меня и удачные дни, в прошлом году в ноябре один раз до того довел их, что Пошта Брифману кредит дал. Или намедни тоже ставка 140 пенгё, Коперташ прохлаждается, Пошта свой контракт проигрывает, потому как Брифман объявил, что берет взятку, то есть заканчивает игру, сидят все трое, головы ломают. Это и есть вариант взять банк, когда у противника хорошие карты, он из игры выходить не хочет, я говорю «хорошо», ведь ему хорошо, но мне-то еще лучше, чувствую, сейчас будет дурхмарш*, верю в свою руку… Знаете, чем черт не шутит, если удво…
*Ситуация в партии Ульти, когда разыгрывающий (солист) должен взять все взятки.
— Дальше! — торопит детектив. — Сколько осталось от трех тысяч?
Шульцер словно сходит с карусели на твердую землю.
— Интроспекция. Слышали про такое, господин хороший? Слышали, конечно. В решающие моменты жизни следует вообразить себя предметом исследования (и снова с воодушевлением), объективировать себя, а затем уже посмотреть в глаза судьбе, понять, чего она ждет от тебя в моральном отношении…
— И вы были способны на это?
— Да, господин хороший. Сам удивляюсь, но смог.
— То есть, разгромить вы их не разгромили.
— Нет. По правде сказать (с легкостью) партия в тот вечер не состоялась — Поште надо было в Пешт (подчеркнуто), но могу заверить, господин капитан, что я пришел туда исполненный решимости, убежденный, что смогу устоять перед приглашением! Устоять — не то слово! Да я бы в лицо им бросил, паразитам, губительным для общества…
Шульцер словно сходит с карусели на твердую землю.
— Интроспекция. Слышали про такое, господин хороший? Слышали, конечно. В решающие моменты жизни следует вообразить себя предметом исследования (и снова с воодушевлением), объективировать себя, а затем уже посмотреть в глаза судьбе, понять, чего она ждет от тебя в моральном отношении…
— И вы были способны на это?
— Да, господин хороший. Сам удивляюсь, но смог.
— То есть, разгромить вы их не разгромили.
— Нет. По правде сказать (с легкостью) партия в тот вечер не состоялась — Поште надо было в Пешт (подчеркнуто), но могу заверить, господин капитан, что я пришел туда исполненный решимости, убежденный, что смогу устоять перед приглашением! Устоять — не то слово! Да я бы в лицо им бросил, паразитам, губительным для общества…
— Дальше!
— Собрался я с духом и пошел к Лефковичу второй раз.
— Второй раз?
— Да. В половине восьмого утра того же дня я уже заглядывал к нему в лавку. Сообщил как на духу, что забрал ваучер, объяснил, зачем он мне нужен и пообещал, когда выиграю, выплатить долг без процентов. Так и сказал ему, мол, понимаю, если вам кажется, что ваше доверие ко мне пошатнулось, и вы потому меня прогоните, но погодите, не заявляйте хотя бы до вечера.
— Могу представить, с каким пониманием он к вам отнёсся!
— Собрался я с духом и пошел к Лефковичу второй раз.
— Второй раз?
— Да. В половине восьмого утра того же дня я уже заглядывал к нему в лавку. Сообщил как на духу, что забрал ваучер, объяснил, зачем он мне нужен и пообещал, когда выиграю, выплатить долг без процентов. Так и сказал ему, мол, понимаю, если вам кажется, что ваше доверие ко мне пошатнулось, и вы потому меня прогоните, но погодите, не заявляйте хотя бы до вечера.
— Могу представить, с каким пониманием он к вам отнёсся!
—Орал, что меня на кол пора посадить.
— Кто еще был при этом?
— Жена его, подмастерье… да, еще агент фирмы Маутнер — те, что посевными материалами торгуют.
— А второй визит?
— Где-то около половины первого. В лавке тогда уже только жена Лефковича была, да мальчишка-помощник, я поднялся на второй этаж, где хозяин по своей привычке обедал…
— Вы прошли через магазин.
— Кто еще был при этом?
— Жена его, подмастерье… да, еще агент фирмы Маутнер — те, что посевными материалами торгуют.
— А второй визит?
— Где-то около половины первого. В лавке тогда уже только жена Лефковича была, да мальчишка-помощник, я поднялся на второй этаж, где хозяин по своей привычке обедал…
— Вы прошли через магазин.
— Из самой лавки нет входа на второй этаж. Только через подворотню, что ведет во двор трефортовского особняка. Попросил у Лефковича прощения, отдал ему ваучер. Он поворчал, поругался, но ваучер взял, я было подумал, что делу конец. Да только на другой день с утра инспектор наш Чонка вызывает меня к себе в кабинет и швыряет на стол заявление. Автор — Лефкович. Этот негодяй накатал на меня жалобу, то есть, даже не просил списать долг, как будто… будто я ему не отдал все, что был должен, честь по чести. Меня допросили — я всю правду рассказал, но напрасно, вчера получил повестку явиться в суд.
— Будем честными: Чонка дело не просто так в суд передал. В конце концов, Лефкович трех свидетелей смог предъявить и доказать, что вы сами признались в краже, а вот как отдавали — никто не видел.
— Будем честными: Чонка дело не просто так в суд передал. В конце концов, Лефкович трех свидетелей смог предъявить и доказать, что вы сами признались в краже, а вот как отдавали — никто не видел.
— А я как же!!!
— Ах, да, верно. Увы, свидетельство обвиняемого в свою пользу как правило на решение суда не влияет.
— Но речь-то не только об этом! Я еще в начале упомянул про ложную интенцию. По-вашему, то, что я стащил ваучер для покрытия карточного долга, так уж невероятно?
— Напротив.
— Однако же игра в тот день не состоялась, логично же, то я не смог отыграть… взаимообразно взятый ваучер, и так же логично было вернуть его владельцу…
С до такой степени неправдоподобной «логикой» Синдбад еще не сталкивался — и опять склоняется над кружкой.
— Ах, да, верно. Увы, свидетельство обвиняемого в свою пользу как правило на решение суда не влияет.
— Но речь-то не только об этом! Я еще в начале упомянул про ложную интенцию. По-вашему, то, что я стащил ваучер для покрытия карточного долга, так уж невероятно?
— Напротив.
— Однако же игра в тот день не состоялась, логично же, то я не смог отыграть… взаимообразно взятый ваучер, и так же логично было вернуть его владельцу…
С до такой степени неправдоподобной «логикой» Синдбад еще не сталкивался — и опять склоняется над кружкой.
Когда султан в подражание Западу ввел в империи Танзимат*, волнение среди подданых было столь велико, что властям пришлось срочно вернуться к привычному гнету и притеснениям. Но самое великое смятение — больше, чем все указы с обещаниями всяческих свобод, впоследствии приостановленные, — вызвало разрешение пить ракы, турецкую водку. Послушные Корану народы империи на протяжении столетий с трудом подчинялись запрету, наложенному Пророком, но ракы — это дьявольское пойло, даже по виду напоминавшее какие-то выделения из груди самого черта, не оставляло попыток захватить власть. Задолго до того, как Синдбад с отцом приехали в Турцию, многие лавочки со сладостями, пекарни, где пекли кунжутные лепешки и маленькие кафе, где готовили пилав превратились в грязные, пахнущие потом распивочные, а на благоухающих лимонным маслом, куркумой, тамариндом и кебабами с перцем и чесноком рынках стал распространяться запах дьявольского напитка.
* «Упорядочение», «уложение» (осман.) — реформы, проводившиеся в Османской империи с 1839 по 1876 гг.
Пришлось отцу Синдбада вспомнить все, что он знал об отравлениях алкоголем, об острых кишечных и желудочных воспалениях. Указывая сыну на пьяниц, храпевших друг на друге по обочинам узких улочек, он не раз отмечал: «Такого я даже на скотном рынке в Нярлигете не видел, а там сливовицу прямо из бочек во фляги разливают».
Когда Синдбад впервые почувствовал запах ракы, ему стало плохо, вырвало даже. Но ряд на базаре, где ее продавали, он не обходил стороной. Тяжелый дух одновременно раздражал и притягивал. Обойдя прилавки с бутылками, он потом до ночи нюхал рубаху, когда же запах ракы выветривался, надо было снова идти на базар. Стоило подойти к кувшину, в носу начинало свербить, кожа зудела, как в дурмане, да и от самой мысли о скором походе туда — первое, что приходило в голову при пробуждении, — болезненно-сладко щемило в груди. Позже, когда отцу пришлось однажды срочно выехать в Мосул, Синдбад натянул рубаху, намотал на голову куфию и попросил у одного торговца ракы на две лиры. Тот отказался продавать мальчику спиртное. Второй продавец тоже отослал его прочь. А третий продал. Придя домой, Синдбад с таким благоговением отпил первый глоток, будто облатку в рот взял. И с отвращением выплюнул. Вылил содержимое бутылочки в кувшин и разбавил гранатовым щербетом. Так все равно получилось крепко, но, когда после каждого глотка стал доливать водой, смесь начала казаться мягче, грубый вкус аниса, похожий на привкус от зубного порошка, превратился в приятное дополнение к кисло-сладкому гранату. За чтением сказок тысяча и одной ночи забыл, что делает нечто предосудительное. Сидел, потягивал напиток из кувшина. После отправился было помочиться, но подняться не смог. Вдохнул глубоко, пощупал ноги — не затекли ли. Но проблема была не в ногах. Беда случилсаь с углами. Обычно в комнате было четыре угла, а теперь вдруг стало пять: четыре стены и пять углов. Очень странно. Синдбад потянулся проверить один из них и с первого же шага поскользнулся. В этот момент внутри у него что-то взорвалось, каждую клеточку в теле заполонила ядовитая жидкость, и обломки этого чего-то, разрывая внутренности, стали проситься наружу. Никакого приятного оцепенения или тумана, только страдание и желание поскорее умереть, а потом — конец света.
Когда Синдбад впервые почувствовал запах ракы, ему стало плохо, вырвало даже. Но ряд на базаре, где ее продавали, он не обходил стороной. Тяжелый дух одновременно раздражал и притягивал. Обойдя прилавки с бутылками, он потом до ночи нюхал рубаху, когда же запах ракы выветривался, надо было снова идти на базар. Стоило подойти к кувшину, в носу начинало свербеть, кожа зудела, как в дурмане, да и от самой мысли о скором походе туда — первое, что приходило в голову при пробуждении, — болезненно-сладко щемило в груди. Позже, когда отцу пришлось однажды срочно выехать в Мосул, Синдбад натянул рубаху, намотал на голову куфию и попросил у одного торговца ракы на две лиры. Тот отказался продавать мальчику спиртное. Второй продавец тоже отослал его прочь. А третий продал. Придя домой, Синдбад с таким благоговением отпил первый глоток, будто облатку в рот взял. И с отвращением выплюнул. Вылил содержимое бутылочки в кувшин и разбавил гранатовым щербетом. Так все равно получилось крепко, но, когда после каждого глотка стал доливать водой, смесь начала казаться мягче, грубый вкус аниса, похожий на привкус от зубного порошка, превратился в приятное дополнение к кисло-сладкому гранату. За чтением сказок тысяча и одной ночи забыл, что делает нечто предосудительное. Сидел, потягивал напиток из кувшина. После отправился было помочиться, но подняться не смог. Вдохнул глубоко, пощупал ноги — не затекли ли. Но проблема была не в ногах. Беда случилась с углами. Обычно в комнате было четыре угла, а теперь вдруг стало пять: четыре стены и пять углов. Очень странно. Синдбад потянулся проверить один из них и с первого же шага поскользнулся. В этот момент внутри у него что-то взорвалось, каждую клеточку в теле заполонила ядовитая жидкость, и обломки этого чего-то, разрывая внутренности, стали проситься наружу. Никакого приятного оцепенения или тумана, только страдание и желание поскорее умереть, а потом — конец света.
Проснулся от горького привкуса слюны, капавшей изо рта. И снова провал. Отец лечил его неделю. Алкоголь внутри расщеплялся, и от этого поднялась температура.
Проснулся от горького привкуса слюны, капавшей изо рта. И снова провал. Отец лечил его неделю. Алкоголь внутри расщеплялся, и от этого поднялась температура.
Там, в Багдаде Синдбад дал себе слово, что ни разу больше не напьется допьяна. Да только днем раньше мимо него на улице прошла дама, которую он когда-то потерял в одном дебреценском пансионе, и это оказалось таким потрясением, что пришлось выпить. И вот он страдает, лежа в позе эмбриона. Самое неприятное — горло. Туда словно крыса залезла и царапает острыми коготками. Аж в ушах звенит. Но нет, это снаружи звук. Синдбад доползает до двери, распахивает ее настежь и дальше уже не проходит, падает на стул у журнального столика. Заходит Шульцер, напоминает об обещании. Синдбад пытается вспомнить, о чем речь, и даже не удивляется, как это он позволяет чужому человеку распоряжаться у себя дома. Что говорит непрошенный гость уже не разобрать, вот бы сейчас заснуть, но стоит об этом подумать, сразу начинает дико болеть горло. Тот, другой вдруг замолкает. Потом одним прыжком оказывается у Синдбада за спиной, зажимает ему голову и резким движением откручивает ее, потом еще раз, уже в другую сторону. Раздается скрип и треск. Защититься детектив не успевает. «Ну все, прикончил», — заключает он со свойственной ему лаконичностью и радуется, что хоть болеть меньше стало. Потом соображает: это не потому, что он умер. Шульцер просто варит кофе, а до этого молол его — вот и скрипело. Спасибо надо сказать. В голове всплывает вчерашний разговор.
— Проводите меня в управление, или лучше подождите у памятника Пазманю, а я по пути что-нибудь придумаю.
Шульцер с готовностью подает капитану пальто с бархатным воротником, сам хватает твидовое, оба выходят на улицу.
Шульцер с готовностью подает капитану пальто с бархатным воротником, сам хватает твидовое, оба выходят на улицу.
Лефкович протягивает было руку для приветствия, но, увидев за спиной у Синдбада Шульцера, застывает.
— Я думал, до суда с этим типом уже не придется встречаться…
— Что вы там думали, меня не очень интересует, — перебивает Синдбад. — Лейтенант Чонка передал дело мне.
Хозяин лавки с деланной вежливостью помогает детективу снять твид — Шульцер кидает свое пальто на стул — и отсылает жену на кухню, чтобы та сварила кофе.
Синдбад изучает лицо женщины, находит ее недалекой и приступает к исполнению своего плана.
— Я думал, до суда с этим типом уже не придется встречаться…
— Что вы там думали, меня не очень интересует, — перебивает Синдбад. — Лейтенант Чонка передал дело мне.
Хозяин лавки с деланной вежливостью помогает детективу снять твид — Шульцер кидает свое пальто на стул — и отсылает жену на кухню, чтобы та сварила кофе.
Синдбад изучает лицо женщины, находит ее недалекой и приступает к исполнению своего плана.
Лефкович проводит пришедших в гостиную и сразу за порогом детектив оборачивается к подозреваемому:
— В глаза смотреть!
Шульцер опускает голову, только изредка вскидывает глаза, говорит тихо, в голосе не страх, скорее, волнение.
— Ваучер я отдал. Во вторник, в половине первого. Вы сами и забрали.
— В глаза смотреть!
Шульцер опускает голову, только изредка вскидывает глаза, говорит тихо, в голосе не страх, скорее, волнение.
— Ваучер я отдал. Во вторник, в половине первого. Вы сами и забрали.
— Ложь! Вы вообще сюда не заходили. Я и Чонке уже говорил! — злобно выкрикивает Лефкович, глядя на Синдбада. — Не понимаю, почему вы позволяете клеветать на честного торговца, не этого преступника вам защищать надо, этого… этого… да ему кишки надо…
Синдбад хватает Лефковича за плечо, отсылает Шульцера в спальню и сам закрывает за ним дверь. Дает хозяину проораться, когда же тот берет паузу, чтобы отдышаться, делает знак остановиться и нейтральным тоном подытоживает:
— Кое-какие детали вызывают сомнение. Лейтенант Чонка так и не обнаружил ваучер у Шульцера дома. Он, конечно, еще где-то мог припрятать документ. До того, как мы сюда зашли, ваш помощник в лавке показал ту самую коробку из-под обуви. Ваучера там не было. Вы, безусловно, тоже могли его куда-нибудь спрятать, более того, вы его явно в другое место положите, если только новый не выдадут, — Лефкович с жаром пытается возразить, но детектив пресекает попытку, на этот раз не без грубости. — Но есть и факты. Так, например, Шульцер признался в присутствии вас, вашей жены, подмастерья и поставщика, что украл ваучер.
— Кое-какие детали вызывают сомнение. Лейтенант Чонка так и не обнаружил ваучер у Шульцера дома. Он, конечно, еще где-то мог припрятать документ. До того, как мы сюда зашли, ваш помощник в лавке показал ту самую коробку из-под обуви. Ваучера там не было. Вы, безусловно, тоже могли его куда-нибудь спрятать, более того, вы его явно в другое место положите, если только новый не выдадут, — Лефкович с жаром пытается возразить, но детектив пресекает попытку, на этот раз не без грубости. — Но есть и факты. Так, например, Шульцер признался в присутствии вас, вашей жены, подмастерья и поставщика, что украл ваучер.
Если Лефкович минуту назад готов был наброситься на Шульцера и Синдбада за прозвучавшее обвинение, то теперь весь его пыл обращен на то, чтобы поддержать слова капитана.
— Иииименно, я ровно то же и говорю, господин следователь. Правда-то — вот она, остальное — пустые разговоры.
— Ошибаетесь. Есть еще один факт. И заключается он в том, что вы лжете.
— Иииименно, я ровно то же и говорю, господин следователь. Правда-то — вот она, остальное — пустые разговоры.
— Ошибаетесь. Есть еще один факт. И заключается он в том, что вы лжете.
Лефковичу словно только что дали пощечину. По его лицу видно: так с ним еще никто не разговаривал, еще чуть-чуть — и бросится на детектива, последний же находит этот момент наиболее удачным для продолжения:
— Знаком ли вам почерк господина Зайяца из табачного киоска? Нечего глаза пялить, отвечайте!
— Откуда мне знать…
— Тогда придется в суде провести очную ставку, вот, взгляните!
— Знаком ли вам почерк господина Зайяца из табачного киоска? Нечего глаза пялить, отвечайте!
— Откуда мне знать…
— Тогда придется в суде провести очную ставку, вот, взгляните!
Лефкович ситает письменные показания свидетеля Зайяца: киоскер утверждает, что тремя днями ранее видел, как Шульцер шел через двор дома Трефорта к Лефковичу.
— Этот грязный провокатор ничего видеть не мог — как раз вчера говорили, что он со своими подельниками какую-то петицию собираются подать в мэрию! —Лефкович рвет бумагу пополам.
— Этот грязный провокатор ничего видеть не мог — как раз вчера говорили, что он со своими подельниками какую-то петицию собираются подать в мэрию! —Лефкович рвет бумагу пополам.
— С тех пор, как бывший премьер министр и Карой Пейер подписали пакт*, состава преступления в подаче петиций больше нет, не будем это сюда примешивать.
Лефкович подходит к окну, начинает дергать занавеску, кажется вот-вот порвет, но потом отпускает. Недовольно махнув рукой сдается.
— Ладно. Заходил ко мне Шульцер. Умолял, чтобы я подождал, пока он не отыграет долг целиком. Я его стал выгонять, а он на меня принялся напраслину возводить, мол, я старый брюзга, спекулянт, потом еще издеваться начал, заявил, будто давно из кассы тайком деньги брал — и куда больше, чем этот ваучер стоит. Тогда и подумал: надо, надо… этого типа приструнить. И сейчас так думаю… Поделом ему! (Смотрит на Синдбада, не может понять, на чьей тот стороне.) Но я неправильно сделал, когда решил сказать, будто он ко мне не приходил — так проще было отправить его туда, где ему место… Но у вас, небось, есть и свидетель, как он ваучер вернул?
Лефкович подходит к окну, начинает дергать занавеску, кажется вот-вот порвет, но потом отпускает. Недовольно махнув рукой сдается.
— Ладно. Заходил ко мне Шульцер. Умолял, чтобы я подождал, пока он не отыграет долг целиком. Я его стал выгонять, а он на меня принялся напраслину возводить, мол, я старый брюзга, спекулянт, потом еще издеваться начал, заявил, будто давно из кассы тайком деньги брал — и куда больше, чем этот ваучер стоит. Тогда и подумал: надо, надо… этого типа приструнить. И сейчас так думаю… Поделом ему! (Смотрит на Синдбада, не может понять, на чьей тот стороне.) Но я неправильно сделал, когда решил сказать, будто он ко мне не приходил — так проще было отправить его туда, где ему место… Но у вас, небось, есть и свидетель, как он ваучер вернул?
* Пакт Бетлена-Пейера был тайно подписан в 1921 г. между премьер-министром Иштваном Бетленом и главой оппозиционной Социал-демократической партии Венгрии Кароем Пейером — после подписания СПДВ была легализована, но ее членами не могли становиться госслужащие, железнодорожники и почтальоны, так что киоскер Зайяц вполне мог составлять петиции, если был членом этой партии.
— Нету. Так что эта часть истории тоже неоднозначная получается. Я мог бы даже поверить, что Шульцер пришел не за тем, чтобы отдать ваучер. Однако же и показания, данные вами и вашей супругой лейтенанту Чонке не могут быть приняты без некоторых условий. Они, конечно, во всем совпадают, да только вы не сторонние наблюдатели, я мог бы сказать, вас это дело непосредственно затрагивает, мог бы сказать, что вы изначально заинтересованы не в том, чтобы спасти Шульцера, а наоборот, ведь если его осудят, перед тем, как отправиться в тюрьму, он будет должен компенсировать ущерб. Законной будет эта компенсация или незаконной — вот в чем вопрос. в любом случае, можно рассчитывать на неплохой цирк в исполнении адвокатов, лакомый кусочек для репортеров…
— Вы мне угрожаете?
— Скажите спасибо, что угрожаю. Я полицейский, а не сестра милосердия.
Синдбад берет со стола коробку с сигарами, нюхает каждую сигару по отдельности, не дав собеседнику шанса предложить закурить с грохотом захлопывает крышку. Спокойно продолжает:
— Скажите спасибо, что угрожаю. Я полицейский, а не сестра милосердия.
Синдбад берет со стола коробку с сигарами, нюхает каждую сигару по отдельности, не дав собеседнику шанса предложить закурить с грохотом захлопывает крышку. Спокойно продолжает:
— Не могу с точностью сказать, кто из вас лжет (неожиданно повышает голос, чуть ли не на крик переходит), но Шульцер насчет кражи не соврал — пришел же к вам с повинной, вы и сами признали, и, значит, пусть не наверняка, но можно предположить, что и в остальном не врет, а если сказанное им подтвердится, и тогда вам не сдобровать… Кое-что мы, конечно, можем проверить. Мы еще не выяснили, нет ли у вас личной неприязни к Зайяцу, не опросили соседей Шульцера. Я еще не осмотрел гардероб подозреваемого! Процедура, на первый взгляд, слишком уж очевидная, но, бывает, приводит к нужным результатам… Все это мы восполним. Если вы действительно не получили обратно ваучер — можете ждать и надеяться, больше скажу, ждите и надейтесь, но если собираетесь всех обхитрить, лучше пойти на попятный до начала суда. Бывали у меня уже такие случае, когда преступники вступали в сговор и пытались очернить невиновного. Заканчивалось это очень плохо! Очень плохо!
Синбад уже рассматривает не сигары, а приглашение на бал в гостинице Корона — в Нярлигете есть особый клуб, члены которого коллекционируют приглашения, дает Лефковичу время попроклинать судьбу и весь мир, а когда тот, похоже, выдыхается, зовет Шульцера.
В прихожую все выходят одновременно — жена Лефковича из кухни, мужчины втроем из гостиной. В руках у женщины поднос, на подносе — кофейник, из кофейника идет пар. У детектива во рту накапливается слюна. В Багдаде без чашки кофе после утренней молитвы день не начинается. Отец клал себе две ложки, половину отливал сыну в горячее молоко. С тех пор Синдбад и полюбил этот напиток. Сегодня, правда, Шульцер уже один раз ему кофе сварил, но то не считается, похмелье надо было снять, даже вкус как следует не почувствовал. Но сейчас нельзя мешать разоблачению. Лефкович протягивает капитану пальто. Твидовое.
— Не это! Мое — с бархатным воротником! — безучастно произносит Синдбад и принимается рассуждать о шансах нярлигетского клуба «Хунгария» в ближайшей игре. Лефкович удивленно морщит брови, но пожимает плечами и несет другое пальто. Жена его, напротив, бледнеет, прислоняется к стене (в чашках предательски дрожат ложечки) и, словно в горле у нее застрял орех, выдавливает из себя:
— Но я же… видела, ви… дела, когда вы пришли… то пальто, твидовое, оно на господине капитане…
— Но я же… видела, ви… дела, когда вы пришли… то пальто, твидовое, оно на господине капитане…
— Без Гезы Кочиша им и на поле выходить смысла нет… Главная проблема у них — неорганизованность. Во время войны, когда играть приходилось по восемь футболистов в команде, все девяносто минут и бегали по полю, ясное дело. Но где те времена! Сейчас на поле думать надо, видеть, — продолжает Синдбад, будто всем известно, как сотрудники следственного отдела любят меняться одеждой с подозреваемыми, а то и вовсе делят с ними гардероб. — Насчет пальто я тут вспомнил… А ну-ка, дайте посмотреть! — приказывает он Шульцеру и последовательно ощупывает внутренние, а затем и внешние карманы его пальто. Предлагает Лефковичу, но тот отмахивается, мол, верит капитану, а Синдбад продолжает объяснять женщине:
— Представьте себе, деньги, ценные бумаги, ваучеры не так-то легко спрятать. Оставишь их под открытым небом — повредиться могут, в квартире — полиция найдет, у знакомых — придется посвятить их в свою тайну, будешь от них зависеть. Поэтому многие преступники держат бумаги при себе, хотя бы какое-то время — так что в порядке проверки имеет смысл провести обыск. Но так уж получилось на этот раз — результат нулевой. Что же до завтрашнего суда, если все-таки захотите мне что-то сообщить, господин Лефкович, позвоните, могу дать свой прямой номер, записать чем дайте, пожалуйста, блокнот у меня с собой, я его всегда во внутреннем кармане держу, не в этом, в другом, а эта бумажка что здесь делает…
Женщина выпускает из рук поднос, изящный фарфор разбивается на кусочки (при этом прихожую заполняет такой пленительный аромат кофе, что хоть глотай его из воздуха).
— Дал объявление в «Городской вестник». Есть у них такой раздел! Странное чувство — как будто я товар из лавки, где посевным материалом торгуют, но с моим-то несчастьем — без денег, без родни… Вам рислинг содовой разбавить?
— Только содовой. Котайской минеральной, — отвечает Шульцеру Синдбад и невольно прижимает руку к животу. Хватит с него понибратства. — Зачем я вам?
— Вы меня спасли. Сколько я вам должен?
— Мне — нисколько. Если же хотите выразить благодарность всем сотрудникам полиции, есть фонд помощи детям полицейских, погибших при исполнении, туда и можете отдать деньги.
— Только содовой. Котайской минеральной, — отвечает Шульцеру Синдбад и невольно прижимает руку к животу. Хватит с него понибратства. — Зачем я вам?
— Вы меня спасли. Сколько я вам должен?
— Мне — нисколько. Если же хотите выразить благодарность всем сотрудникам полиции, есть фонд помощи детям полицейских, погибших при исполнении, туда и можете отдать деньги.
Шульцер кивает, заказывает лагер и нервно смеется, явно пытаясь скрыть смущение.
— У меня — девятнадцать, у вас, господин капитан — без малого двадцать на руках, оба за счет блефа выезжаем. Я — картами, вы — тем, что в чужих пальто ходите…
— Это была ловушка. Блеф — это когда я Лефковичу свои каракули под видом показаний киоскера показал, — сухо отвечает Синдбад.
— У меня — девятнадцать, у вас, господин капитан — без малого двадцать на руках, оба за счет блефа выезжаем. Я — картами, вы — тем, что в чужих пальто ходите…
— Это была ловушка. Блеф — это когда я Лефковичу свои каракули под видом показаний киоскера показал, — сухо отвечает Синдбад.
Шульцер глубоко вздыхает. У него явно еще какое-то дело — постукивает пальцами по столу, губу кусает:
— Долги мои увеличились до таких размеров, что вернуть их нет никакой возможности… — заметив презрение в глазах Синдбада, ускоряется. — Вы ведь знаете, я у них в руках, но вчера вечером, сразу после заседания в суде я сел с ними играть — восемьдесят пенгё взял, да, это оно, то, чего я всегда ждал, полоса везения, тут-то и надо мне их прищучить, негодяев, но, увы, запасы мои истощились, я уже и материнское кольцо в ломбард отнес, мне бы кредитец небольшой… Скажем, если бы вы доверили мне пару сотен примерно, мы бы с вами в плюсе оказались, и сиротам хватит, я не ангел, только в картах и смыслю (тут он даже распрямляется), зато уж как следует! Насчет денег — подпишем договор, как полагается, я за честную коммерцию, если вы пожелаете, конечно…
«Иногда, наверное, не стоит вмешиваться в ход дела», — думает Синдбад, больше всего ему сейчас хочется вылить собеседнику на голову свою минералку.
— Долги мои увеличились до таких размеров, что вернуть их нет никакой возможности… — заметив презрение в глазах Синдбада, ускоряется. — Вы ведь знаете, я у них в руках, но вчера вечером, сразу после заседания в суде я сел с ними играть — восемьдесят пенгё взял, да, это оно, то, чего я всегда ждал, полоса везения, тут-то и надо мне их прищучить, негодяев, но, увы, запасы мои истощились, я уже и материнское кольцо в ломбард отнес, мне бы кредитец небольшой… Скажем, если бы вы доверили мне пару сотен примерно, мы бы с вами в плюсе оказались, и сиротам хватит, я не ангел, только в картах и смыслю (тут он даже распрямляется), зато уж как следует! Насчет денег — подпишем договор, как полагается, я за честную коммерцию, если вы пожелаете, конечно…
«Иногда, наверное, не стоит вмешиваться в ход дела», — думает Синдбад, больше всего ему сейчас хочется вылить собеседнику на голову свою минералку.
